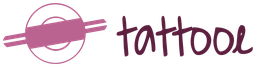Священник Павел Александрович Груздев - sphinx_616 — LiveJournal. Архимандрит павел груздев Где похоронен архимандрит павел груздев
Беседа 2
Протоиерей Георгий Митрофанов:
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем наш разговор о жизненном пути и служении одного из выдающихся пастырей Русской Православной Церкви ХХ века архимандрита Павла (Груздева). У микрофона я, протоиерей Георгий Митрофанов, и вместе со мной в студии моя супруга Марина Александровна. В связи с тем, что в жизни нашей семьи архимандрит Павел (Груздев) сыграл очень большую роль, мы решились рассказать о нем, о его жизненном пути, о нашем небольшом опыта общения с ним.
В прошлой программе мы попытались представить рассказ о том, как проходил первый этап жизни архимандрита Павла (Груздева), когда он, пройдя через все те испытания, через которые проходила наша страна, наша Церковь в страшные 1920-40-е и 1950-е годы, принял священный сан в 1958 году. С этого времени мечтавший когда-то с детских лет о монастырской жизни, но так и не вкусивший ее рясофорный инок Павел (Груздев) становится священником, которому и предстояло в дальнейшем войти, не побоюсь этих пафосных слов, хотя всякий пафос был чужд самому архимандриту Павлу (Груздеву), войти в историю Русской Православной Церкви ХХ века.
Итак, какого же рода приходское служение осуществлял отец Павел по принятии им священного сана в 1958 году?
Марина Александровна Митрофанова:
«Помоги мне, Господи, поприще и путь священства без порока прейти. Иерей Павел (Груздев)» – записал батюшка в своем дневнике в знаменательный день, в Крестопоклонное воскресенье, 16 марта 1958 года, когда его рукоположили во иереи. Вскоре отца Павла назначили настоятелем Воскресенского храма села Борзово Рыбинского района. Он приехал туда за два дня до Пасхи 1958 года и потом вспоминал: «Увидали его женщины в церкви: идет поп по дороге босиком, сапоги на палке через плечо несет. «Ой, кого это нам прислали!» – чуть ли не запричитали сразу. Заходит отец Павел в Воскресенский храм, а грязища везде, немыто. Он и говорит: «Бабы, когда Пасха?» «Ну и поп! Не знает, когда Пасха будет!» – стали бабы возмущаться. А ума-то не хватило понять, что батюшка их этими словами обличил – что ж вы, бабы, в храме не убрали, ведь Пасха через два дня!
В 1946 году произошло радостное событие в жизни Церкви – была возобновлена монашеская жизнь в Троице-Сергиевой лавре. И когда отец Павел вернулся из лагерей, для него известие об открытии лавры стало невероятным событием. И отец ему говорил: «Павел, вроде лавру открыли. На деньжонок, съезди, побывай в лавре». Отец Павел рассказывает: «Я и поехал. Приезжаю, смотрю – всенощная идет, и вроде как и монахи ходят. Вышел один монах читать Шестопсалмие. Ну, думаю, робот! Всех монахов-то пересажали, извели. Я и подошел к нему потрогать – почувствую, железо или не железо? А тот говорит: «Поаккуратнее, не толкайтесь». И стал дальше читать».
Монахом этим был отец Алексей (Казаков), один из первых насельников лавры после ее открытия, а потом его перевели в Самару. В обители преподобного Сергия состоялось их знакомство с отцом Павлом, которое переросло в крепкую дружбу. В 1986 году незадолго до смерти отец Алексей писал отцу Павлу: «Дорогой старец, всечестнейший и досточтимейший отец архимандрит Павел, благослови! Рад и утешен твоим письмом и поздравлением. Спаси Господи и паки спаси Господи. Живу по милости Божией. Избенка покрыта и одежонка пошита. В лавре я не был давно и прямо скажу – охоты нет. Все новые люди и порядки, и все натянуто, надуто, чопорно. Так потихоньку живу, служу. Молись обо мне. Целую братски. Недостойный архимандрит Алексий».
Отец Павел часто говорил о том, что он последний, что не только ему пришлось поминать всех усопших друзей и близких своих, но и быть свидетелем целого века, который ушел. И он действительно постепенно оставался почти единственным носителем старого православного духа. И вот когда он служил в храме села Борзово, он старался сделать жизнь в этом храме такой, которая была ему родной, которая ему представлялась единственно естественной. Но вскоре после своего возвращения из паломнической поездки в Псково-Печерский монастырь он услышал нерадостную весть о том, что Воскресенский храм села Борзово Рыбинского района подлежит закрытию. И ему было очень жалко расставаться с этим храмом, потому что в нем он надеялся обрести постоянное место, будучи всю жизнь гонимым и не по своей воле переселяемым в разные концы нашей родины. Неслучайно тогда он очень часто вспоминал знаменитую песню «Ветка», которую очень любил петь сам и которую знают все, кто к нему ездил и многие в Ярославской епархии: «Уж ты ветка бедная, ты куда плывешь? Берегись, несчастная, в море попадешь. Там тебе не справиться с сильною волной, Как сиротке бедному с злобою людской…» И так далее. И жалко было отцу Павлу расставаться с прихожанами, которые его успели полюбить. Он даже хотел увезти, как потом сам он признавался, древнюю икону Богородицы, а вместе нее вставить в киот копию, написанную братом Алексием, талантливым художником. Но он не поддался на это искушение: «Не буду первым храм разорять». И оставил все, как есть, на волю Божию.
«15/28 февраля 1960 года служил последний раз Литургию в селе Борзово», – сделана запись в батюшкиных тетрадках. А 7/20 марта 1960 года начал службу в Свято-Троицком храме села Верхне-Никульское. Отцу Павлу после закрытия храма в Борзове было предложено на выбор три прихода в Некоузском районе: Воскресенское, Верхне-Никульское и райцентр Некоуз. Некоуз ему не понравился, а в Воскресенском он старосте не понравился: «Маленький, плюгавенький, нам такого не надо» – сказала старостиха, – «нам попа надо представительного, видного, ражого» (то есть красивого). А в Верхне-Никульское приехал, там староста еще с войны была. Она ему открыла храм, и отец Павел перед иконой «Достойно есть» отслужил молебен. «Так пел, так пел», – вспоминали прихожане, – «что староста сказала: приезжайте, мы Вас возьмем». Тогда от старосты во многом зависела регистрация священника на приходе у уполномоченного по делам религии. В Верхне-Никульском этот вопрос благополучно решился, и 7 марта 1960 года управляющий Ярославской епархией епископ Исайя издает указ: «Моим определением от 7 марта 1960 года настоятель Воскресенской церкви села Борзово Рыбинского района священник Груздев Павел Александрович переводится, согласно прошению, настоятелем Троицкой церкви села Верхне-Никульское Некоузского района Ярославской епархии».
И вот с этого дня начинается тридцатидвухгодичное служение отца Павла в Троицком храме села Верхне-Никульское.
Прот. Георгий Митрофанов:
Хочется отметить еще одну выразительную историческую деталь. Действительно, 1960 год был временем, когда храмы в нашей стране интенсивно закрывались. Но тем не менее случилось так, конечно же, по милости Божией, что именно в этом году, потеряв один храм, к которому уже так прикипела его душа, архимандрит Павел (Груздев) оказывается на том самом приходе, который, собственно, и станет местом всего его дальнейшего служения и который многих православных христиан – и тех, кто был обращен в православную веру в 1960-80-е годы и даже в начале 90-х годов, и станет местом подлинного паломничества.
Но тогда это был один из отдаленных храмов, который вряд ли мог бы привлечь внимание даже жителей близлежащих сел. Это был, действительно, храм, в котором для архимандрита Павла (Груздева) начинался самый главный этап его жизненного пути, этап служения приходского священника.
М.А. Митрофанова:
«12 ноября нового стиля в понедельник в Ярославле, в Феодоровском кафедральном соборе от руки Его Высокопреосвященнейшего Никодима, архиепископа Ярославского и Ростовского принял пострижение в мантию иеромонах Павел (Груздев)». Так записано в дневниках отца Павла поздней осенью 1962 года. При пострижении отца Павла владыка Никодим оставил ему его имя, то есть практически сохранил весь его жизненный путь и духовную биографию. Это тоже было волей Божией, как бы знаменующей, что Павел Груздев всегда шел иноческим путем и менять в его судьбе ничего не надо. Только Ангелом-хранителем отца Павла теперь стал святитель Павел, Патриарх Константинопольский, исповедник, и новый день именин иеромонаха Павла совпал с днем празднования преподобного Варлаама Хутынского, чудотворца, которому Павел Груздев столько лет служил. В день своего пострижения в мантию новоначальный инок пишет в дневнике стихи:
Отец Павел, 12 ноября 1962 года
Тобой дано святое слово,
Произнесен святой обет.
Под знамя стал ты Иеговы,
Клялся забыть людей и свет.
Ты изрекал: Отдам всю волю,
Покой свой в жертву принесу,
Восприиму в свою я долю
Труды и пост, души красу.
Предстану Господу в молитве,
Не уставая день и ночь,
Пребуду в непрестанной битве
С страстями, отгоняя их прочь.
И вот придет Жених желанный,
Предстанет Друг и воззовет.
Имей ответ на зов нежданный –
И Он в чертог тебя введет.
Будь истинным иноком, и Господь не оставит тебя.
Это изречение совпадает в тетрадях отца Павла с другими: «Живи проще, и сам Отец не оставит тебя».
Весь жизненный путь отца Павла и был таким очень простым, но его простота была очень сложной для очень многих людей, в том числе и тех, кто жил в селе Верхне-Никульском. Поэтому в храме, особенно поначалу, людей было не так много. Это потом, когда отец Павел стал известен, и к нему приезжали ярославские, тверские, московские и питерские батюшки, он стал так популярен, что даже автобусная остановка от Шестихино, где все выходили, называлась не «Верхне-Никульское», а «Отец Павел» в просторечьи.
Но это все было потом, а пока начиналось все с того, что отец Павел должен был жить в каменной холодной сторожке. Когда он пришел туда, он увидел, что все, что могло быть разрушено в этой сторожке, было разрушено. И даже вызывала сомнения надежность потолка. Поэтому в первую ночь своего пребывания в Верхне-Никульском он пододвинул стол к окну и лег головой на подоконник, а туловище на столе, думая что если потолок обрушится, то его хотя бы не убьет, не раздавит голову. Начиналось все его служение с самых простых вещей – то есть с работ по обустройству не только своей бытовой жизни, но в первую очередь с обустройства храма, потому что воды Рыбинского водохранилища очень сильно подняли грунтовые воды, и в храме очень много было разрушений, несмотря на то, что он был открыт. Храм был бедный, поэтому у него не было возможностей заниматься тем, что мы сейчас называем реставрацией и восстановлением. И поэтому отец Павел занимался самыми простыми вещами: он приводил в порядок в храме то, что он в силах был сам сделать, и при этом постепенно, как это всегда происходит, незаметно, если священник служит очень истово и добросовестно, то в храм всегда начинают притекать люди. А отец Павел был знаменит тем, что служил он истово, очень долго поминал усопших, потому что усопших у него на памяти было очень много, и всех он считал своим долгом помянуть. И постепенно храм в Верхне-Никульском становился прибежищем для очень многих людей, которые искали спасения или просто утешения, понимания и любви, которой так не хватало в окружающей жизни.
А затем его путь кажется очень простым, потому что когда перебираешь даты, здесь только идут его награды: 1963 год – награжден наперсным крестом, 1966 год – награжден саном игумена, 1971 год – награжден палицей, 1976 год – крестом с украшениями. Это все внешние приметы жизни отца Павла, которая была очень простой и продолжалась в этом самом храме в Верхне-Никульском. Продолжалась она до тех пор, пока к концу жизни отец Павел практически не ослеп – тут сказались допросы этого самого следователя Спасского, который во время допросов направлял ему в глаза очень сильную электрическую лампу, и зрение отца Павла сдавало давно, но уже где-то с 1991 года он практически ничего не видел. И в конце июня 1992 года он был перевезен в Тутаев, где жил в сторожке при Воскресенском храме. Несмотря на то, что он был окружен людьми, которые его любили, понимали, за ним ухаживали, все равно, я думаю, жизнь в церковной сторожке была в достаточной степени тяжела. Там, например, не было даже умывальника, воды и прочее. Такие условия провинциальной жизни довольно тяжелые, хотя несмотря на все это, он иногда приходил в Воскресенский храм к отцу Николаю Лихоманову и всегда просил его смиренно, можно ли ему послужить. На что отец Николай, теперь архимандрит Вениамин, очень смущался, изумлялся, почему у него отец Павел просит благословения, потому что он всегда рад его видеть за службой. И в Тутаев ведь добраться легче, чем до Верхне-Никульского, и туда людей стало приезжать еще больше. Но 13 января 1996 года на 86-м году жизни в больнице после тяжелых своих болезней, причастившись Святых Христовых Таин, архимандрит Павел умер. Похоронен он на Леонтьевском кладбище города Тутаева.
Прот. Георгий Митрофанов:
Мы много говорили о том, что, действительно, пройдя такой тяжелый жизненный путь, пронеся сквозь все эти испытания свою еще в детстве обретенную веру, веру, которая, конечно же, во всех этих испытаниях, надо полагать, крепла, привела его в конце концов именно к пастырскому служению на приходе, которое продолжалось чуть меньше сорока лет, архимандрит Павел (Груздев) действительно оказался пастырем, имя которого стало широко известно.
Чем же объяснить то обстоятельство, что этот провинциальный священник, не имевший никакого богословского образования, значительную часть жизни переживавший тяжелые испытания, все-таки на фоне других священнослужителей выделялся своим духовным и человеческим своеобразием? И в чем заключалось это своеобразие архимандрита Павла? Ведь в кругу его духовных чад были очень разные люди: от маститых московских протоиереев и академиков до простых крестьянок, немудрящих прихожанок его же собственного храма. С чем можно было бы связать особенности его служения, в чем заключались эти особенности его духовного облика, который привлекал к нему столь разных многочисленных духовных чад? Действительно, очень многие люди, даже лишь изредка, периодически приезжавшие к нему, становились его духовными чадами, и во многом их жизненный путь определялся его советами, его благословениями.
М.А. Митрофанова:
Для себя я бы определила это так: отец Павел был самым свободным человеком в мире, которого я могла бы себе представить. Но он был свободен не той свободой, которой мы сегодня видим – свободу неоновых джунглей, – он был свободен как свободны люди, которые познали истину. Так были свободны первые христиане. Но эта его свобода еще каким-то удивительным образом сочеталась с какой-то трогательной, умилительной, простонародной традиционностью. И вот это сочетание вещей совершенно, на первый взгляд, трудно сочетаемых выделяло, например, для меня его духовный облик.
Например, совершенно замечательные проповеди отца Павла, очень простые. Он выходил на клирос и говорил – поскольку прихожане-то были в основном старухи: «Дорогие мои старухи!» И тут же обращался к своей келейнице: «Верно, Марья?» Та из угла кивает: «Верно, батюшка, верно». И вот эта простота обращения делала людей сразу открытыми и доверчивыми. Но при этом эта его простота всегда поражала.
Вот он сам о себе рассказывает: «Родные мои, не особо давно позвали меня в Борок…» А Борок – это было место недалеко от Верхне-Никульского, где существовал научно-исследовательский институт охраны внутренних вод СССР, и там жили и работали ученые, которые отца Павла, надо сказать, очень любили и почитали, и там он был частым гостем. И вот он вспоминает: «Не особо давно позвали меня в Борок. «Отец Павел, приди, мамку причасти!» Пришел. Интеллигентный дом, что ты, пироги – вакса: ешь и пачкайся. Живут – страсть! Палку не докинешь. Богачи ради своих трудов. Женщину причастил, напутствовал. А этот мужчина говорит: «Отец Павел, знаешь что? Ты к нам никогда так не зайдешь. И вот я, пользуясь случаем, пригласил тебя к мамке, так ты погляди, как мы живем». Как распахнул дверь-то, а на столе-то, робята! Нажарено, напекено. «Отец Павел, на любое место!» Я говорю: «Парень, ведь пост!» А он и головушку повесил, говорит: «Недостоин, недостоин посещения твоего». А жена-то все вздыхает. Я думаю: «Господи, а пост будет!» «Парень, режь пирога, давай рыбы, давай стопку!» Господи, робята, напился, наелся на две недели, и домой пришел с радостью – и парню благотворил. Дай ему, Господи, доброго здоровья! А пост-то! Поститеся да молитеся, когда люди не видят. Верно? Верно. Вот так-то». Такая была у него проповедь, например.
И еще у него была замечательная проповедь, он часто любил ее повторять: 1947 год, Тутаев. Очередь за хлебом. Очередь большая, и видно, что хлеба на всех не хватит. Выходит из магазина продавщица и говорит о том, что человек пятьдесят пусть стоят, а остальные могут уходить, потому что хлеба им не хватит. И где-то примерно в сотне стоит женщина, у которой трое детей, мал-мала меньше. И она понимает, что хлеба ей уже не хватит, но сразу уйти у нее сил нет. Это понятное чувство. А дети, конечно, спрашивают у нее, получат ли они хлебца. И вот выходит из толпы один мужчина, который стоял в этой счастливой части очереди из первых пятидесяти человек, и говорит ей: «Вставайте на мое место». И женщина сначала пугается, отнекивается, но потом встает на его место и спрашивает у него: «А как же Вы?» А он говорит: «Да как-нибудь», машет рукой и уходит. И вот отец Павел, когда приводил этот рассказ, увиденный им в жизни послевоенного Тутаева, он всегда говорил об одном, что вот этот человек спасется, потому что он живет в соответствии с тем, что заповедал нам Господь. И отец Павел для себя на всю жизнь верно запомнил слова одного архимандрита Иннокентия. Этот архимандрит Иннокентий был в Свято-Ростовском монастыре и жил он в первой половине XIX века. Не знаю, откуда знает его отец Павел, но он очень часто вспоминал его слова: «Не смею не принять Христа, а в чьем лице придет Он, не ведаю». И вот эта заповедь, которую отец Павел себе где-то в сердце сложил и всегда ее исполнял. И для него человек, который мог вот так передать в голодный год свою очередь за хлебом человеку, который более нуждался, чем он, для него было ясно, что этот человек достоин спасения и будет спасен.
И все его проповеди носили очень простой характер. Он был прекрасный рассказчик, и у него был совершенно замечательный, выразительный язык. Когда он произносил свои проповеди, иногда можно было очень много смеяться, и даже непонятно, как среди таких рассказов, каких-то повестушек, небольших притчей можно было увидеть сразу что-то, что мы называем «духовным». Вот, например, такая проповедь: «Развелось попов как клопов, и все кусаются. Одного корысть заела, у другого жена как сатана, а мы, что же, Господи, веруем, помоги нашему неверию!» Вот такая проповедь. И в этом для меня, например, совершенно очевидно соединение удивительной свободы, которой невозможно подражать, ее невозможно имитировать, потому что так можно только жить. Наверное, это у него был дар Божий вот этой свободы, которая позволила ему пройти без оглядок, без отвлечений на что бы то ни было таким ясным, прямым путем с трехлетнего возраста в Мологском монастыре до самого своего земного конца. Вот таким очень ясным, светлым, простым и свободным – и одновременно человеком, который умудрялся людей, которые с ним пересекались и сталкивались, радовать этой самой настоящей пасхальной радостью. Потому что несмотря на свой сложный жизненный путь, он был человек очень радостный. Когда говоришь о людях, далеких, святых, великих, это звучит очень обыденно и привычно. А вот когда ты видишь реального человека, знаешь его реальные жизненные сложности и при этом видишь, что он очень светлый и радостный, это всегда производит очень сильное впечатление.
Прот. Георгий Митрофанов:
Мне бы хотелось обратить внимание на одну черту, которая пока еще, как мне кажется, не очень явно проступила в сегодняшней программе об отце Павле (Груздеве). Я имею в виду черту определенного рода юродства. Действительно, мы в истории Церкви знаем примеры того, как юродствовавшие во Христе подвижники действительно проявляли тем самым свою какую-то очень широкую, безграничную свободу. Если говорить об элементах юродства, которые были в служении, в пастырской деятельности, вообще во всем образе жизни отца Павла, что можно было бы упомянуть?
М.А. Митрофанова:
В служении отца Павла юродства не было. Он был очень последовательный, грамотный, опытный священник, и в самой службе никакого юродства не было. Все остальное – я никогда бы не назвала это словом «юродство». Я бы назвала это чистым, открытым сердцем. Мы читаем заповеди блаженства в Евангелии: «блаженны чистые сердцем» и довольно плохо представляем себе, что это такое. Умом вроде бы что-то понимаем, а сердцем не представляем. Только глядя на таких людей, как отец Павел, можно понять, что такое чистый сердцем человек.
Он не был юродивым. Я думаю, он был очень смелым. Поскольку он стоял на самой низшей ступени – ниже, чем в деревне, ему оказаться уже было негде, это определяло еще и внешнюю его свободу поведения. К тому же он был удивительно любящий человек. И поэтому его наставления всегда носили характер особый. Например, одна из его любимых присказок: «Не бойся сильного грозы, а бойся нищего слезы». Если об этом как следует подумать, то очень много можно чего надумать. А у него все было очень простое по одной простой причине: он не был юродивым, но он видел духовную реальность так же четко, как и физическую. С годами, потому что с возрастом человек как-то меняется, он видел это все отчетливее и отчетливее. И для меня эти черты юродства – если говорить о том, что кого-то пугает его язык, с одной стороны, простонародный, а, с другой стороны, он допускал то, что мы называем «непечатные выражения», но это никогда не обращалось в бытовой речи. Он мог что-то сказать, рассказывая очередные байки, притчи, он очень любил детские сказки. Я думаю, что он сам не понимал, что иногда у него грубоватая лексика проскальзывала. А проскальзывала эта лексика по одной простой причине: во-первых, он был человек самый простой, родившийся в определенной среде, прошедший лагеря – и это естественно определяло эту лексику. Но при этом здесь есть, как я думаю, очень важное нам указание на то, чтобы мы никогда не старались сделать из него того, кем он никогда не был и не хотел быть. Он был настоящий, живой, духовный человек, и если мы сейчас будем видеть во всех его разговорах, проповедях, воспоминаниях, которые о нем сохранились, чудачества и юродства, мы таким образом исказим не только его духовный облик, мы исказим тот путь, которым он шел к Богу, и нас при этом старался вести. Поэтому, если говорить обо мне, я категорически не согласна с тем, что он был юродивый. Я никогда не думала, если речь идет о ненормативной лексике, что это кого-то смущает, меня это никогда не смущало. И теперь я понимаю, что это для того, чтобы его нельзя было «произвести» ни в какие «почетные» и «непочетные» «великие духовные люди». Я теперь понимаю, что это от Бога нам дано было такое указание, чтобы мы не смели к нему подступать со стремлением сразу его наградить какими-то регалиями, поместить в красный угол и таким образом исказить все то, что он нес в жизни.
Потому что, когда он говорил, что он – последний, он имел в виду самые простые вещи. Действительно, он оставался одним из последних священников, которые помнили ту хорошую, русскую старую жизнь, когда, как он сам говорил, «еще русские люди были». А старцем он себя называл не в том смысле, какой мы вкладываем в слово «старец» и каким стали его называть его многочисленные гости, а в слово «старец» он вкладывал очень простой смысл: он просто старый, старик. И в этом было столько духа, столько свободы, столько Бога, а не в том, что можно попытаться представить все как юродство, а юродство – это необходимый признак некоей духовной субстанции, которая нам позволит в этом человеке что-то провидеть. Это все не про отца Павла. Он был совершенно живой человек в том высоком смысле слова «живой», какой только можно вложить в это слово, когда говоришь о христианине.
Прот. Георгий Митрофанов:
Я все-таки осмелюсь настаивать на элементах юродства в его служении. Именно потому, что под служением, конечно, не подразумеваю совершение богослужений, а имею в виду именно его пастырскую деятельность, общение с людьми. Его юродство, конечно, было обусловлено, с одной стороны, его очень типичным, я бы сказал, настоящим великоросским характером. В его юродстве проявлялась его самоирония. Он своим юродством сбивал тот самый пафос, которым, конечно, преисполнялись многие, приходившие к нему, как к «святому старцу», как к «прозорливцу» и «целителю». Ведь немало было и таких людей. И, конечно, своим «нестандартным» поведением, подчас даже с ненормативной лексикой, он всячески сбивал этот самый ложный пафос.
С другой стороны, его юродство заключалось в том, что прожив, действительно, вместе с гонимой Церковью очень трудную жизнь, пережив по сути дела с поколениями гонимых русских христиан все их испытания, он действительно отдавал себе отчет в том, какую же страшную трагедию пережила Церковь, пережил русский православный народ в ХХ веке. Пережив такую трагедию и осознав переживание этой трагедии, очень сложно было всерьез и прямолинейно, пафосно говорить о каких-то важных духовных истинах, о которых он, конечно же, как священник, думал постоянно и которые пытался донести до окружающих его людей. И здесь его так называемое «юродство», которому многие умилялись, не понимая его подлинной природы, было по существу вызовом тем, во многом подчерпнутым из, так сказать, «репринтных» православных изданий (хотя тогда еще этих «репринтов» не было, по крайней мере, в таком количестве, как сейчас) представлениям, которые искажали и искажают до сих пор у многих образ подлинного пастыря – даже тогда, когда они с ним встречаются.
И вот здесь мне бы хотелось рассказать об опыте моей встречи с отцом Павлом, которая действительно была очень важна в моей жизни и которая, на мой взгляд, очень выразительно явила его мне, а через меня – и тем моим близким, которые после этой встречи оказались обращены к архимандриту Павлу.
В 1983 году произошла моя встреча с отцом Павлом, на его приходе в Ярославской епархии. Я практически ничего о нем не знал до этой встречи и вообще в те годы, как, впрочем, и в последующие не отличался тягой к посещению каких-то старцев. И тем не менее, отдавая себе отчет в том, что в своей церковной жизни, которую мне нужно было тогда совмещать с жизнью своей профессиональной, общественной, семейной, я чувствовал необходимость получить конкретный совет по очень конкретному поводу. Случилось так, что в 1983 году, когда я женился, когда у меня родился сын, а я работал младшим научным сотрудником в Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки, мне надо было писать кандидатскую диссертацию как молодому историку, занимающемуся научной деятельностью. Все мое естество тянулось уже не один год в Духовную семинарию, и я сам уже тогда размышлял о будущем священническом служении, но те несколько священников, с которыми я советовался тогда, в наших ленинградских храмах, по поводу своего дальнейшего пути, убеждали меня в том, что мне нужно продолжать занятия моей диссертацией, продолжать занятия научной работой, что внутренне мне тогда казалось уже совершенно чуждым. Тем более, что в те времена тема моей диссертации была идеологически достаточно сложной «Экономические взгляды кадетов в период Третьей и Четвертой Государственной Думы». При написании такой диссертации, действительно, нельзя было не покривить душой против своих взглядов, против своих убеждений, что для меня как для христианина казалось уже неприемлемым. Более того, мой научный руководитель постоянно настаивал на том, чтобы я вступил в Коммунистическую партию, что для историков в те годы было очень важным подспорьем. Казалось бы, очевидная вещь: нужно оставить то, что тебе внутренне чуждо, не идти не на какие компромиссы. Но, к сожалению, ни один из священников, с которыми я беседовал тогда, не сказал мне почему-то этого прямо. Внутренне я очень тяготился своим двойственным положением, мне хотелось услышать из уст священника слово, которое бы укрепило и поддержало меня.
Конечно, отдавая дань привычным представлениям о том, что за таким благословением по поводу какого-то важного эпизода собственного бытия нужно идти к священнику, «к старцу», я стал размышлять о том, а к кому же мне отправиться? И услышал от крестной своего сына, дочки священника Тверской епархии, об отце Павле, о котором до этого не знал ничего. Я отправился к нему, причем ехал я на поезде из Ленинграда до Весьегонска, ехал с очень показательным набором книг: у меня были сочинения Симеона Нового Богослова и толстый том новелл американского писателя Уильяма Фолкнера. И вот, вооружившись таким двумя книгами, я отправился в дальний путь к архимандриту Павлу, совершенно не представляя, кого я встречу на этом приходе.
Я доехал до Весьегонска, добрался до одного из сельских приходов в Тверской, тогда еще Калининской, епархии, где получил такое рекомендательное письмо, записку даже, я бы сказал, для архимандрита Павла от одной из церковных женщин, пачку гречневой крупы, которую должен был передать отцу Павлу. И затем уже перебрался на автобусе в Брейтовский район Ярославской области из Весьегонского района Тверской области, а потом добрался, уже даже автостопом, что было для меня совершенно непривычно, до села Верхне-Никульское, в котором служил отец Павел.
Конечно, для меня это была совершенно непривычная, нестандартная ситуация, и когда я шел уже к храму, я ожидал увидеть у храма такого патриархального, сошедшего со страниц ведомой мне тогда уже агиографической литературы старца. И я, действительно, увидел немолодого человека, старика, одетого в какое-то странное пальто, хотя была летняя жара, причем пальто женское; в каких-то странных галошах. Он шел по полю, и только указания людей на то, что это отец Павел, подвигнули меня к нему подойти. Конечно, это было поразительное разочарование. Я не знал, как реагировать на того человека, которого увидел. А самое главное, я не знал, как донести до него мои проблемы. Все, что меня мучило тогда в нашем городе, моя диссертация, моя работа в Отделе рукописей, казалось явлением из совершенно другого мира. И что я мог узнать здесь, вот от этого, живущего какой-то совершенно другой жизнью, старика?
Но тем не менее я оказался у цели своей, для меня в достаточной степени трудной психологически и нравственно поездки, и нужно было идти до конца. Я подошел к отцу Павлу, с трудом взял благословение – никак даже руки не складывались под благословение этого странного, не похожего совершенно на священника человека. И я услышал от него очень странные слова: «А что ты здесь ходишь-то? Смотри, заберут в колхоз на работу». Мне трудно было себе представить, что меня могут забрать на работу в колхоз, но уже в этой фразе я ощутил еще большую несоизмеримость того, с чем я приехал, и этого человека. А потом, взяв пакет гречневой крупы, он сказал: «Иди в храм, я сейчас приду».
И я вошел в храм, ожидая его появления, теперь уже не зная, как я буду с ним говорить и о чем я буду с ним говорить. Мне просто захотелось уйти. И вдруг я увидел его преобразившимся. Он вошел в подряснике, уже явно представ перед мной в виде настоящего священника, настоящего старца. И, комкая руки, волнуясь, я пытался донести до него свои проблемы. Не могу сейчас дословно воспроизвести наш разговор, но основные его реплики были характерны. Когда я стал рассказывать ему о своей диссертации, я понял, что нужно просто говорить то, что у тебя на душе, не пытаясь как-то адаптировать для такого странного сельского священника. Он внимательно слушал, и как только я упомянул о своей диссертации, он сказал: «Пиши диссертацию, конечно, христианин может писать диссертацию. Ко мне вот приезжают академики (он назвал фамилию академика), приезжают ученые – они все диссертации пишут. Пиши». Я был несколько разочарован, в глубине души мне хотелось услышать другое. Тогда я стал говорить о том, что работа над диссертацией предполагает в дальнейшем писание других произведений, в которых я буду неискренен. «Неважно», – сказал отец Павел, – «христианином нужно оставаться. Можно и неискренним быть». Я ничего не понимал и тогда прибегнул к последнему аргументу: «Мне придется тогда вступить в Коммунистическую партию, если я буду заниматься как историк научной работой. Это требование научных учреждений, в которых я буду работать». «Можно и в Коммунистическую партию. Христианин может все, если он настоящий христианин. Пойдем», – сказал он мне, подвел меня к фреске, на которой Спаситель беседует с Никодимом и сказал: «Вот тайный ученик Христа. Таких тайных учеников Христа во все времена было много. Чем только они не занимались. И в партии могли быть. Но при этом оставались христианами. А Господь всех их, конечно же, спас. Так что можешь диссертацию писать, можешь в партию вступать – если будешь оставаться христианином». И вот в этот самый момент, когда я почувствовал себя совершенно раздавленным от того, что в нем столь неожиданно проступила вот эта его свобода, он мне сказал свое выразительное «но»: «Но подумай – если все это тебе действительно нужно». Вот, собственно, одна была сказана фраза: нужно ли тебе все это? Христианин, если он чувствует необходимость, может многое. Может делать очень многое, может быть, самые неожиданные действия осуществлять – если ему это духовно нужно. И он мне даже не задал вопрос, а просто поставил это условие. И я вдруг почувствовал, что мне, конечно же, ничего этого не нужно. Возникла пауза, после которой он сказал: «Ну что, все, возвращайся к семье, а то смотри, в колхоз тебя заберут работать». Что означала эта фраза, я до сих пор понять не могу, но для меня было очевидно одно: он открыл мне великую тайну духовной жизни, которая основана на духовной свободе. А значит – и ответственности за все свои поступки. Я нисколько не сомневаюсь, что когда к этому прошедшему сталинские лагеря и ссылки, искалеченному в них во многом физически, но духовно несгибаемому пастырю приходили люди, шедшие на компромиссы в советской действительности, он находил для них слова и понимания, и сочувствия, и сопереживания, сам будучи совершенно на них не похожим. И в этом заключалась его глубокая внутренняя свобода.
Я вышел тогда на дорогу из этого храма, остановил машину, чтобы автостопом добраться до райцентра Брейтово. И вот ощущение поразительной внутренней свободы, которая в стенах этого храма открылась для меня. Свободы от всякой непоследовательности, от всякого лукавства, двоемыслия, двоедушия. Это было самое главное переживание. Да, еще только через два года я поступил в Духовную семинарию, отрабатывая свой диплом после окончания университета. Но уже тогда для меня стало ясно, что путь мой, конечно же, лежит в направлении служения Церкви и именно в качестве священнослужителя.
Собственно, мое личное общение с отцом Павлом ограничилось именно этой встречей, и эта встреча предопределила всю мою последующую жизнь, предопределила во многом жизнь моей семьи, в которую отец Павел тогда вошел, произнеся по сути дела всего лишь несколько фраз для этого мятущегося, прекрасно понимающего, в чем истина, но не находящего в себе сил этой истине следовать, молодого ленинградского интеллигента. И, конечно, этот урок духовной свободы, духовной ответственности во многом определял мои собственные решения впоследствии.
У меня не было в дальнейшем какого-то регулярного общения с архимандритом Павлом (Груздевым). Более того, для меня стало приятной неожиданностью то, что сейчас о нем стали появляться книги. Но память о нем, столь не похожем на многих известных мне священнослужителей и пастырей, пастыре, который воплощал в себе идеал простого русского человека, прошедшего сквозь страшный ХХ век с высоким, возвышающим его душу во всех страшных ситуациях чувством близости ко Христу – этот образ, конечно же, запечатлелся для меня как образ пастыря и христианина, каковой и являет в этом мире присутствие Церкви.
Прошли годы, и для меня стало ведомо значение в нашей церковной жизни и митрополита Агафангела, и архиепископа Варлаама (Ряшенцева). Сейчас я, действительно, только сейчас я в полной мере могу представить, в каких тяжелых условиях, в общении с какими выдающимися людьми происходило формирование великой, духоносной личности архимандрита Павла, из простого крестьянского мальчика ставшего настоящим православным пастырем. Но главное значение его, мне кажется, заключается именно в том, что в нем воплотилось то лучшее, что было в нашем простом русском народе – в том народе, который уже давно перестал быть похожим на самого себя. Это поразительное стремление в своей жизни, какой бы тяжелой она ни была, быть возвышенней, духовней, открывать непосредственно, по-детски просто и одновременно по-взрослому мудро свое сердце для Христа. Жить со Христом, во Христе и Христом, переживая самые тяжелые жизненные испытания. Действительно, архимандрит Павел в своей жизни не был обременен ничем – ни образованием, ни профессией, ни семьей, ни богатством. У него не было ничего, кроме Христа, Который не оставлял его нигде. Я даже вспоминаю, что во время нашего разговора, когда он упомянул о своем пребывании в лагере, тем самым как бы обозначив свою позицию в отношении того мира, в котором мы все жили, он мне сказал: «Как же я в лагере спасался? Да, хорошо знал, какие травы от чего помогают. Сам лечился, других лечил». Помню, меня это тоже разочаровало – я ведь ждал рассказа о том, как он, так сказать, духовно наставлял своих солагерников. Но и здесь прозвучали простые слова, за которыми стояло опять-таки его служение ближним в качестве вот такого знахаря народной медицины, помогающего людям в условиях, когда никакой медицинской помощи не было.
Живой, добрый крестьянин, возвысившийся до подлинных высот православного пастырства. Примечательно то, что на протяжении многих лет он был связан узами, не побоюсь этого слова, духовной дружбы с таким нашим иерархом, как митрополит Никодим. И мне очень понятны взаимоотношения этих совершенно не похожих друг на друга людей. Неся на себе тяжелейшее бремя церковной политики в условиях, когда любая политика была грязным делом, митрополит Никодим не раз поступал так, как бы ему не хотелось, не раз переступал через самого себя. И тем отраднее было видеть ему изредка приезжавшего к нему архимандрита Павла (Груздева), не только напоминавшего ему о его родной ярославской земле, с которой были связаны у митрополита Никодима многие светлые воспоминания – там начинал он свое пастырское служение, – но и являвшего ему образ того подлинного христианина, который не имея ничего, кроме Христа в сердце, прошел свою жизнь последовательно, честно, не сгибаясь. Вот, может быть, для того, чтобы таким христианам жилось в этом мире немножко легче, и шел митрополит Никодим на те многочисленные политические компромиссы, которых требовали от него обстоятельства. И наверняка общение с архимандритом Павлом было нужно ему для того, чтобы не потерять ощущение подлинного христианства, которое так легко было утерять в коридорах высокой церковной политики. Конечно, казалось бы, так связанный с историей нашего ХХ века и так свободный от исторических издержек ХХ века архимандрит Павел проявлял себя, конечно же, как прежде всего пастырь. И я думаю, что очень многие люди, нерегулярно даже, а изредка посещавшие его, получили от него то, что, может быть, важнее всех старческих благословений и прозрений, – ощущение той подлинной жизни во Христе, которую, увы, очень часто трудно встретить даже в нашей церковной жизни.
Думаю, что наш рассказ об архимандрите Павле (Груздеве) не может, естественно, претендовать на то, чтобы исчерпывающе показать его жизненный путь, его духовный облик. Но, слава Богу, в настоящее время выходят книги, не все они одинакового уровня, одинакового качества. В некоторых книгах уже намечается стремление создать такой вот сусальный образ классического «старца последних времен». И воспоминания людей, встречавшихся с ним, подчас, оказываются весьма различными в своем качестве, в своей способности воспринять этого поразительного пастыря. Но то, что память о нем живет в Церкви, то, что в Церкви продолжают оставаться люди, которым архимандрит Павел оказал свою духовную, пастырскую, да просто человеческую помощь, является очень важным элементом нашей церковной жизни, в которой, может быть, уже и нет больше старцев, но в которой все-таки еще встречаются такие подлинные пастыри, каким был архимандрит Павел (Груздев), имя которого, конечно же, стоит в одном ряду с наиболее выдающимися пастырями Русской Православной Церкви ХХ века.
Благодарю Вас, Марина Александровна, за участие в нашей программе. Надеюсь, что нам удалось нашим радиослушателям указать на того пастыря, воспоминания о котором, рассказы о котором, сейчас уже выходящие в различных книжных изданиях, могут помочь выбрать верные духовные ориентиры в нашей очень непростой современной церковной жизни.
До свидания!
М.А. Митрофанова:
До свидания!
Я познакомился с архимандритом Павлом (Груздевым) тогда, когда у меня уже был старец — духовный наставник, тоже отец Павел, по фамилии Троицкий. К тому времени я жил под его руководством уже много лет. И потому, естественно, отец Павел (Груздев) не стал для меня таким руководителем, как для десятков других людей.
Мы познакомились через протоиерея Аркадия Шатова. Как-то раз отец Аркадий предложил мне поехать в село Верхне-Никульское, к отцу Павлу. День мне запомнился: это было в день праздника иконы Божией Матери «Достойно есть», а это, как известно, чтимый праздник в храме ВерхнеНикульского.
Эта замечательная икона была привезена в Троицкий храм села Никульского со Святой Горы Афон, где специально по заказу из России ее писали афонские монахи. Она была списком с афонской иконы, выполненным в традициях Святой Горы.
И вот в первый раз я попал в Верхне-Никульское. Каким я увидел тогда Никульское? Совсем небольшое село, достаточно глухое; довольно ветхая церковь, как показалось мне, даже с покосившимися крестами. Подходим к церковной ограде, как вдруг навстречу выходит пожилой батюшка, небольшого росточка, с очень простым русским лицом, быстро и как-то радостно подходит ко мне, протягивает руки и громко и совсем просто говорит мне: «Володька!» Потом обнимает меня, целует — словно мы знакомы с ним уже лет двадцать.
А дальше я вижу, что точно так же он приветствует и всех остальных священников, которых тоже встречает впервые. И конечно же, с самых первых секунд знакомства у нас устанавливаются самые легкие, самые простые и близкие отношения. И никаких трудностей в общении, никаких вопросов…
В тот день мы вместе служили Литургию. Тогда отец Павел еще немного видел, а позже полностью потерял зрение. Служить ему было нелегко, и я удивлялся про себя, как он вообще может служить один? Ведь у него никогда не было ни диакона, ни знающего помощника.
Когда в гости к батюшке приезжали священники из разных мест — ярославские, московские, — он очень радовался, даже как-то духовно восторгался, это было заметно.
В тот день мы с батюшкой отслужили водосвятный молебен. При жизни батюшка сам его возглавлял — и пел громко. На этот праздник народ съезжался в Верхне-Никульское из разных мест, иногда — очень издалека.
Дорожка вокруг храма была украшена травой, кое-где – цветы. Праздник начинался молебном, потом служилась Литургия, а после Литургии происходил крестный ход. Все это было незабываемо!
После службы батюшка приглашал всех в свою хибарку при храме, чтобы разделить со своими гостями радость праздничной трапезы. И трапеза эта тоже была незабываемой!
Отец Павел, как я говорил уже, был очень прост. И я бы осмелился утверждать, что он юродствовал. Он, например, совершенно сознательно и намеренно нарушал общепринятый словесный этикет, используя, как сейчас называют, ненормативную лексику. Какие тому были причины? Не знаю наверняка, но могу предположить: тем самым он как бы показывал нам, что никакие внешние нормы не являются для него предметом уважения и почитания, что суть людей и явлений всегда глубже. И вот эта-то глубина чувств и мыслей накрепко связывала его с окружающими людьми.
К батюшке приезжало священство не только духовно более или менее опытное, но и занимавшее определенное, довольно видное положение в церковных кругах. Известные столичные иереи игумены и архимандриты даже архиереи. Но обращался батюшка ко всем в высшей степени просто: «Колька!.. Сережка!.. Володька!.» Игуменью большого монастыря называл по имени, не величая матушкой. И это было для всех нас очень полезно: он смирял людей. Но, как я понимаю, не духовное лицо смирял как таковое, а человека, облаченного высоким духовным саном. При этом он как бы умышленно забывал о том достоинстве, в которое был возведен тот или иной священнослужитель. Он ко всем обращался так, будто перед ним какие-то мальчишки или девчонки…
 И это действовало на людей замечательно, я бы сказал— отрезвляюще. Все эти сановитые лица, которые у себя, на своих постах постоянно окружены почтением и, хоть в малой степени, но избалованы, от слов отца Павла приходили в то обычное, нормальное, забытое уже состояние души, когда человек прекрасно понимает, что он прежде всего— прах и тлен, а уж если и есть в нем что-то хорошее, — то это от Бога! Не возносись| — такова была, мне кажется, главная мысль отца Павла в подобных случаях…
И это действовало на людей замечательно, я бы сказал— отрезвляюще. Все эти сановитые лица, которые у себя, на своих постах постоянно окружены почтением и, хоть в малой степени, но избалованы, от слов отца Павла приходили в то обычное, нормальное, забытое уже состояние души, когда человек прекрасно понимает, что он прежде всего— прах и тлен, а уж если и есть в нем что-то хорошее, — то это от Бога! Не возносись| — такова была, мне кажется, главная мысль отца Павла в подобных случаях…
Сам отец Павел, имея высокий сан архимандрита, был прост в высшей степени, потому что всю свою жизнь посвятил Богу. Жизнь его была настоящим исповедничествомведь за свою веру он претерпел и гонение, и ссылки. Но я не могу припомнить, чтобы батюшка хотя бы раз сказал о каких-то своих заслугах. Наоборот! О себе он говорил настолько уничижительно, пренебрежительно даже, так подчеркивал свою худость, бедность, убогость, так безжалостно говорил о своей необразованности, — что рядом с ним никому, ни одному человеку невозможно было возноситься, выставлять свои достоинства и что-то из себя представлять. И от этого, конечно, отношения между людьми вокруг отца Павла устанавливались дружеские, сердечные, доверительные. Любой приехавший к нему человек должен был оставить перед церковной оградой все свои звания, титулы, чины и достоинства. Говорю о достоинствах мнимых, потому что подлинное достоинство как раз с простоты и начинается. И первое приветствие: «Петька!.. Васька!.. Володька!..» — воз вращало человека, отягченного земной суетой, к его действительной сути, освобождало его от тяжелого груза условностей.
Мне приходилось бывать у отца Павла не однажды. Чаще всего я приезжал на праздник иконы Божией Матери «Достойно есть», 24 июня по новому стилю. И каждый раз неизменно отец Павел был полон любви, окружал всех гостей заботой, радовался гостям так же, как и самому празднику. Иногда даже прямо так и говорил: «Этот праздник мне устроили москвичи!» Хотя, на самом-то деле, приезжали люди со всех концов, и каждого он принимал с открытой душой…
Конечно, он много рассказывал. Говорил о своем детстве, о юности, прошедшей в Хутынском монастыре под Новгородом, вспоминал о годах заключения и ссылки. Его рассказы были, как и он сам, просты по виду, незамысловаты, — и всетаки очень поучительны для каждого слушателя.
Любил батюшка петь, пел в церкви за богослужением, очень часто обращался во время трапезы к своей келейнице: «Манька! Запевай!» Из многих песен, которые я слышал, мне особенно запомнилась одна, которую батюшка с Марией называли «Ветка». «Мария! Давай про ветку споем». И они запевали… Эту «Ветку» наши дети выучили наизусть и теперь часто поют дома хором. Веселой эту песню не назовешь. В ней говорится о том, как ветка отломилась от дерева, и стихия уносит ее по водам в бушующее море. А в море этом ей, понятно, уготована гибель. Смысл песни очевиден: людям, у которых потеряны основы, корни — уготована гибель в беспокойном житейском море. Потому что житейская стихия поглощает всех и не щадит никого…
Помню, как отец Павел приезжал в Москву, к отцу Аркадию Шатову. Однажды я был у отца Аркадия, когда к нему приехал батюшка. Мы тогда замечательно побеседовали. А в это самое время в московских приходах начали появляться искушения, связанные непосредственно с отцом Павлом. Искушения были такого рода: многие священники московские начали ездить к батюшке за советом. Следом за ними потянулись прихожане московских храмов. Известность и авторитет отца Павла быстро росли, многими он воспринимался как старец, поэтому люди ехали к нему с духовными вопросами.
И у меня в приходе в то время произошел такой случай. Одна прихожанка, ходившая ко мне исповедоваться, вышла, если можно так сказать, из послушания, потому что я не мог благословить ее на то, что она собиралась делать… И тогда она поехала к отцу Павлу жаловаться на меня. А потом возвратилась и сказала, что отец Павел ей ответил: «Уходи от него, уходи!» Он имел в виду при этом меня, иерея Владимира. Честно говоря, такой ответ меня очень удивил— почему? Ведь батюшка так хорошо ко мне относится! А в беседе с этой прихожанкой дает мне, получается, самую нелестную характеристику!
Вопрос оставался, и я переживал его достаточно болезненно. И при первом же своем визите к батюшке я спросил его, что он имел в виду? А он с такой обезоруживающей простой улыбкой отвечает мне: «Володька! Да что же ты не понимаешь? Ведь эта баба тебя замучает! Вот пусть и идет, куда хочет от тебя! Ведь это я тебя от нее избавил, а не наоборот!»
Вот такими были некоторые его способы воздействия на человека. Наверное, кого-то они могли и смутить. Потому что в таких действиях был элемент юродства, а юродство малодуховным людям понять непросто…
Очень часто сбывалось то, что батюшка предрекал. Например, однажды он гостил в Москве в моем доме, и как раз в это время была у нас в гостях очень чтимая нами подвижница, можно сказать, старица — Агриппина Николаевна. И батюшка в разговоре с ней сказал: «Ты, матушка, умрешь, когда на дворе белые мухи летать начнут». И хотя Агриппина Николаевна прожила еще несколько лет после того разговора, но умерла она, действительно, на второй день после Покрова, в первый снег, когда по двору летали снежинки какой-то небывалой величины, похожие на сказочных мух…
Но прозорливость — прозорливостью, а меня в батюшке более всего поражали простота, смирение, любовь и кротость, с которой он переносил все свои жизненные трудности и невзгоды. А невзгод у него было немало. Во-первых, слепота, которая к старости прогрессировала буквально с каждым годом и делала его совсем беспомощным в обыденной жизни. Потом — бедность, на грани нищеты. Когда он жил в Верхне-Никульском, у него иногда не было денег, чтобы купить на зиму дров. А еда? А другие жизненные нужды?
А тут еще, ко всему прочему, обрушился свод в главном приделе Троицкого храма! Храм давно уже требовал ремонта, потому что его фундамент постоянно подмывали воды Рыбинского водохранилища, нанося огромный вред всем храмовым постройкам. Но денег на этот ремонт, на реставрацию храма, конечно же, не было. Но и в том, как рухнули эти своды, тоже видна милость Божия и забота о Своем избраннике.
Дело было так. Батюшка сам мыл полы в главном приделе. Неожиданно в руку его вонзилась большая заноза. Боль была такая, что батюшка бросил тряпку и вышел из храма. И в эту самую секунду рухнул свод купола. Многотонные каменные глыбы проломили пол, причем в том самом месте, где несколько секунд назад стоял отец Павел! Когда он вернулся в храм, он увидел облака оседающей пыли и груду камня на том самом месте, где он только что стоял… В куполе зияла дыра, сквозь которую виднелось голубое чистое небо. И при этом, чудесным образом, никто не пострадал!
Чтобы восстановить купол, нужны были большие деньги, а их, разумеется, не было. Тогда батюшка как – то закрыл проход между главным и боковым приделом и стал служить в боковом приделе. Он служил летом и зимой, служил почти совсем слепым. Он служил до тех пор, пока совсем не изнемог, — так он любил свой храм, свой приход. Так он любил богослужение.
Потом батюшке пришлось подчиниться Промыслу Божию и переехать к отцу Николаю Лихоманову в Тутаев, он жеРоманов-Борисоглебск. Отец Николай поселил батюшку в келейке около храма, и здесь он был, конечно, всем обеспечен, досмотрен, ухожен, поскольку отец Николай очень о нем заботился.
Но тут возникла другая проблема: к нему стало ездить во много раз больше народа, чем это было в Верхне-Никульском. Потому что добраться до Тутаева гораздо быстрее и легче. Батюшка старался принять всех, хотя его келейница, Мария, пыталась ограничить этих посетителей, нелегких для старца.
Вот такой образ остался в моей памяти. Образ духоносноro старца, внешне простого и даже юродствовавшего, образ его милующей любви, пламенной веры, горячей молитвы. Он очень любил одну притчу, которую часто рассказывал в храмовых проповедях.
В притче рассказывалось об одной женщине, которой было открыто, что в указанный день к ней в дом явится Сам Господь. И она, плененная этой радостью, отложила все дела и решила принять Господа с подобающей Ему честью.
Она убрала и вымыла весь дом, приготовила к назначенному дню самое лучшее кушанье и питье, и, все приготовив, стала ждать чудесного Гостя. Вот слышится стук в дверь. Отворяет — а там обычная нищенка, попрошайка, голодная и холодная, с протянутой рукой. «Сегодня не до тебя! — отвечает хозяйка. — Я высокого Гостя жду, некогда с тобой разговаривать!» И дверь закрыла.
Прошло немного времени, опять стук. Открывает, а на этот раз за дверью голодный мальчишка, хлеба просит. «Не до тебя сегодня! — говорит она. — Приходи завтра, а сейчас некогда!»
И так прождала она весь день, а всех, кто к ней приходил, отваживала, ссылаясь на большую занятость. Но вот кончился день, и хозяйка потеряла надежду, а с надеждой и терпение. И тогда она взмолилась: «Господи, что же Ты не идешь? Ведь я так готовилась, так ждала!» И тут она слышит голос в ответ: «Но Я же пытался войти к тебе сегодня много раз, да ты Меня даже в дом свой не пустила».
И эту притчу, такую народную, такую простую и доходчивую, батюшка рассказывал народу громко, со слезами на глазах, и было видно, как эти простые слова глубоко проникают в сердце каждого стоявшего в храме. Проникают, напоминая людям о милосердии, о любви и сострадании к ближним.
Вспоминается еще один случай. Батюшка как раз гостил в Москве, в нашем доме. Было это давно, еще до всех перестроек. И мы дома у себя совершали какую-то службу — то ли Соборование, то ли молебен служили, не помню точно. А после службы, на которой у нас был отец Павел, решили спеть песнопение, повсюду в те времена звучавшее как гимн— «Земля Русская».
Наши детки, певшие в церковном хоре, исполнили это песнопение. Громко, хорошо спели. А громче всех пел Алеша Емельянов, который к тому времени учился уже, кажется, в Семинарии.
Отец Павел был растроган до слез и несколько раз нам повторил: «Алешку-то берегите!.. Берегите Алешу!.. Он ведь большим человеком будет».
Так и получилось. Алеша стал отцом Алексием и всеми любимым священником. Его очень любит паства, у него немало духовных чад. Он стал настоятелем больничного храма и много трудится на самых разных поприщах. А отец Павел уже тогда прозорливо отметил этого мальчика, будущего священника, служителя Церкви.
Но бывали и другого рода воспоминания о взаимоотношениях батюшки с людьми. Так, вспоминал отец Павел одного священника, который во времена гонений на Церковь очень многих верующих сдавал в органы НКВД, донося на них. На допросах или будучи агентом — этого я не помню.
Через него пострадали многие люди, в том числе и сам отец Павел. И вот отец Павел уже стал священником, даже архимандритом, а тот иерей продолжал служить в одном из приходов. И никакого видимого покаяния отец Павел никогда не замечал во всем его поведении.
И вот однажды, когда все священство собралось на общее Епархиальное собрание, отец Павел счел необходимым во всеуслышание сказать этому старику-священнику грозные слова: «Сережка! Скоро Страшный Суд!» Конечно, батюшка не хотел гибели этого человека, наоборот, — он хотел напомнить ему о покаянии: «Скоро на Суд пойдем!» И вот, когда батюшка рассказывал нам об этом случае и произносил эти слова, мне почему-то казалось, что он говорит это не только для того злосчастного иерея, погубившего множество людей, — мне казалось, что он напоминает о Страшном Божием Суде всем нам, каждому, кто был рядом. Такая в его голосе была вера, такая убежденность, что не могло это быть только рассказом о прошедшем времени. Нет, он напоминал каждому из нас о том, что скоро грядет Суд Божий, и каждому придется ответить за все свои поступки, слова и помышления. И неважно, что грехи у всех нас разные, — важно, что отвечать придется каждому, и Суд Божий будет для всех.
От отца Павла у меня осталась память. Как-то мы приехали к нему вскоре после того, как рухнули своды храма в Верхне-Никульском. Храм был засыпан кирпичом и штукатуркой. Из этого завала батюшка уже ничего не мог достать, да и разгрести-то его долгое время не могли. И тогда мы попросили у него взять каждому что-нибудь на память из этих руин. Батюшка нам это позволил.
Мне достался один подсвечник, который отец Павел отдал мне сам. Подсвечник этот был весь смят, искорежен ударами. Я отдал его в реставрацию, его выправили, и теперь этот подсвечник напоминает мне об отце Павле, о Троицком храме в Верхне-Никульском и о том замечательном времени, когда мы отовсюду собирались на праздник иконы Божией Матери «Достойно есть».
Конечно, я бывал у батюшки и в Тутаеве. Был на его отпевании и погребении. Похороны отца Павла ясно показали его настоящее место в Церкви. Они были такими торжественными, собралось столько священства во главе с владыкой Ярославским и Ростовским архиепископом Михеем, молилось такое громадное количество верующих людей со всех концов России, что было ясно: мы хороним не обычного священнослужителя, а редкостного, удивительного, всеми любимого и чтимого старца!
- Амвросий Медиоланский: говорящий от имени Христа
- О нашей жизни с отцом Глебом. Ч.4: Служение священника
- Как Павел Груздев был судебным заседателем
- Слово Патриарха Алексия II об отце Глебе Каледе
===========================================
ИСТОЧНИК:
Отец Павел Груздев. Путеводная звездочка души простого священника
Архимандрит Павел (Груздев) (10 (23) января 1910, Мологский уезд — 13 января 1996, Тутаев) — удивительный старец Русской Православной Церкви. С малых лет он жил при монастыре, в годы революционной смуты служил и трудился на благо Церкви, с 1938 года скитался по тюрьмам и ссылкам. Сохранивший детскую душу, кротость и любовь к ближним, он стал на излете земного пути особо почитаем верующими: к нему шли за духовным советом, за теплым словом ободрения.
К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое.
(Пс. 15,3)
 Как-то я узнала, что в доме знакомого нам священника гостит весьма почтенный старец. Я поехала к Шатовым с сильным желанием увидеть еще раз в жизни избранный сосуд Божией благодати. Иной раз мы хоть встречаемся где-то, среди суеты мирской, со святыми людьми, но высота их духовная не открывается нашим очам. Как сквозь грязные, тусклые очки смотрим мы на человека. Он кажется нам ничтожным, порочным, подобным всем другим, окружающим нас. Увидеть же Божий огонь, согревающий душу ближнего — это дар от Господа. Получив же этот дар, узрев огонь Духа Святого в сердце другого человека, хочется показать людям этот Свет, сказать: «Смотрите, в наш век родился и вырос этот человек, в век общего отступления от Бога, от веры. Находясь долгие годы среди падших людей, среди воров, бандитов, в концлагере, без церкви, в тяжелом труде, человек этот сумел сохранить в чистом сердце своем Любовь к Богу, Любовь к людям — то есть святость своей души».
Как-то я узнала, что в доме знакомого нам священника гостит весьма почтенный старец. Я поехала к Шатовым с сильным желанием увидеть еще раз в жизни избранный сосуд Божией благодати. Иной раз мы хоть встречаемся где-то, среди суеты мирской, со святыми людьми, но высота их духовная не открывается нашим очам. Как сквозь грязные, тусклые очки смотрим мы на человека. Он кажется нам ничтожным, порочным, подобным всем другим, окружающим нас. Увидеть же Божий огонь, согревающий душу ближнего — это дар от Господа. Получив же этот дар, узрев огонь Духа Святого в сердце другого человека, хочется показать людям этот Свет, сказать: «Смотрите, в наш век родился и вырос этот человек, в век общего отступления от Бога, от веры. Находясь долгие годы среди падших людей, среди воров, бандитов, в концлагере, без церкви, в тяжелом труде, человек этот сумел сохранить в чистом сердце своем Любовь к Богу, Любовь к людям — то есть святость своей души».
Всего два раза по часу сидела я у постели уже слабого и больного отца Павла, но то, что я от него услышала, образно осталось в моей памяти. Постараюсь красочно описать это, да святится в душах наших Имя Господне.
Бог привел меня встретить в гостях у отца Аркадия их семейного духовника — отца Павла Груздева.
Когда началась Первая Мировая война, Павлику было всего четыре года. Его отца взяли в солдаты. Матери было не по силам кормить большую семью, поэтому она послала двоих детей побираться.
За руку с шестилетней сестренкой Павлик ходил из дома в дом, прося ради Христа милостыню. Так из села в село тащились босые, оборванные детишки, радуясь корочкам хлеба, моркови и огурчикам, которые подавали им бедные крестьяне. Усталые и измученные, добрели дети до монастыря, в котором жила послушницей (младший чин) их старшая сестра. Жалкий вид ребятишек тронул сердце сестры, и она оставила детей при себе. Так с раннего детства Павлик узнал жизнь людей, посвятивших себя Богу.
Мальчик усердно исполнял порученную ему работу. Зимой он приносил к печкам поленья дров, летом полол огород, выгонял в поле скотину — в общем, делал все, что было ему по силам. Он вырос, окреп и к восемнадцати годам исполнял всю тяжелую физическую работу в монастыре, так как был там единственным мужчиной.
Тут грянула революция. Как гром и буря прокатилась она по России, ломая старый уклад жизни, разрушая все кругом. Монастыри разгоняли, храмы закрывали, духовенство арестовывали. Пришлось и Павлу покинуть обитель, приютившую его с детства. Он пришел в монастырь Варлаама Хутынского, расположенный под Новгородом. Здесь его облачили в рясофор (монашеский чин) с благословения епископа Алексия (Симанского), будущего Патриарха. Но через четыре года, то есть в 22-м году, и этот монастырь советская власть разогнала. Павел начал работать на судостроительстве, которое называлось «Хутынь». Павел оставался глубоко верующим, посещал храм, был там на должности псаломщика. Такие люди были неугодны советской власти, поэтому в 1938 году Павла арестовали. Но так как вины за ним не нашлось, его выпустили, а в мае 41-го года снова арестовали. Если б не тюрьма, то попал бы Павел на фронт, так как в июне уже началась Великая Отечественная война. Но Всевидящий Господь сберег жизнь раба Своего, ибо хранил его на те годы, когда снова пробудится вера на Руси, когда нужны будут народу пастыри, призывающие к покаянию.
В пересыльной тюрьме Павел терпел и голод, и грязь, а потом терпел дальнюю дорогу в Кировскую область, под город Пермь. Там был расположен лагерь для заключенных — «ВУТЛАГ». Здесь, под Вяткой, Павлу суждено было проработать на железной дороге целых шесть лет, то есть всю войну.
Обвинительная статья у Груздева Павла была 58-я, но к ней приписывались еще три буквы — СОЭ, которые обозначали «социально опасный элемент». Так при советской власти назывались верующие люди, которые могли примером своей честной, религиозной жизни поддержать преследуемую Церковь. За этими людьми не было вины, однако их держали в концлагерях, изолируя от них общество. В число СОЭ попал и Павел.
Начальство лагеря знало, что никакого преступления Груздев не совершил, он был покорным судьбе, смирным и трудолюбивым. Поэтому Павел был не «подконвойным», а пользовался относительной свободой. Он мог без стражи выходить из лагеря и заниматься чем угодно. Но в его обязанности было следить за исправностью железнодорожного полотна на протяжении шести километров. Если выпадал глубокий снег, то в помощь Павлу выделяли других заключенных. Он должен был раздать им лопаты, ломы, метлы и проследить за очисткой доверенного ему участка дороги. Для этого Павел должен был прийти на «трассу» на час раньше других, получить орудия труда, отнести все на дорогу.
Осенью, в праздник Воздвиженья Креста Господня (28 сентября), неожиданно похолодало и за ночь выпал глубокий снег. Павел ночевал один в убогой каморке под лестницей. Подняв голову с подушки, набитой сеном, Павел увидел снег и поспешил на трассу, не успев съесть полученный им на сутки хлеб. Вернувшись в свою каморку, Павел не нашел спрятанный им кусок хлеба. Его украли. Жидкий суп-баланда не утолил голода. Павел почувствовал сильную слабость. Однако он взял на плечо мешок с инструментами и отправился проверять железную дорогу. Он простукивал рельсы, подвинчивал гайки, а сам пел молитвы празднику: «Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояние Твое…»

Его громкий голос, сначала гулко разносившийся среди бесконечного леса, скоро ослаб, а ноги стали подкашиваться от голода. Павел воззвал ко Господу, моля Его не дать ему упасть и замерзнуть. Если б не глубокий снег, то в сентябре он мог бы надеяться найти в лесу бруснику и голубику… «Господи, пошли мне хоть что-нибудь в пищу», — просил Павел. Он сошел с насыпи и углубился в лес. Павел подошел к огромным елкам, ветки которых склонились до земли под тяжестью снежных сугробов. Но ближе к стволу снег еще не лег. Раздвигая сучья, Павел наклонился и полез в сырую полумглу. Тут он увидел пред собой огромную семью отличных белых грибов, крепких, сочных. Павел обрадовался, возблагодарил Бога и собрал в мешок эти чудные дары природы. Он тут же вернулся в свою каморку и, затопив печурку, сварил с солью посланные ему Богом грибы. «Так убедился я, что надо мною есть Божие милосердие, — рассказывал нам отец Павел. — В другой раз прошел я свой участок пути до конца, все тщательно проверил и доложил начальнику об исправности пути. День был осенний, холодный, то дождь, то снег, темнело быстро. Начальник предложил мне проехать обратно в лагерь с ним на паровозе, на что я охотно согласился. Мчится наш паровоз сквозь ночную мглу, и вдруг — толчок! Но ничего, понеслись дальше, только начальник мой рассердился:
Разве путь в порядке, коли так скачем? Хлеба тебе убавлю! И вдруг — вторичный толчок! Начальник рассвирепел:
В карцер посажу!!!
Ничего не могу знать, — отвечаю, — днем все было в исправности.
А как приехали, я обратно по путям побежал: надо ж разузнать, что за толчки были, ведь поезд пойдет, храни Бог, что случится. Гляжу — на путях лошадь лежит без головы. Бог дал мне силы, еле-еле стащил я труп с рельсов в сторону, дальше пошел. Я заметил места, где толчки были. И что же: еще одна лошадь с отрезанными ногами лежит на рельсах. Вот оно что! Значит, пастух зазевался. Стащил я и эту тушу в сторону и пошел к сараю, где должен был быть пастух. Кругом — мгла ночная, ветер, дождь. И слышу я какие-то хрипы. Вхожу в сарай, а там пастух висит. Я скорее вскарабкался, перерезал своим инструментом веревку. Тело грохнулось на землю. Я давай его трясти, ворочать, по пяткам бить. Нет пульса! Но я не унимаюсь, молюсь: «Помоги, Господи, коль Ты послал меня сюда в последний его момент». И вот из носа и ушей кровь хлынула. Я сообразил: у покойника кровь не потечет. Стал снова пульс щупать. Слышу — сердце бьется у пастуха. Ну, думаю, теперь ты жив и дышишь, лежи, отдыхай, а я пойду. Прибежал я в санчасть, доложил. Сразу дрезина с фельдшером выехала на место, куда я указал. Спасли человека. Через три недели меня на суд вызвали, как свидетеля. Пастух был вольнонаемный».
От отца Павла требовали, чтобы он подтвердил мнение судьи: пастух — враг народа, «контра», нарочно погубил лошадей.
Нет, — отвечал отец Павел, — пастух устал и заснул от изнеможения, его надо извинить. Он и сам был не рад случившемуся, он даже жизни своей был не рад, потому и в петлю полез, чему я и свидетель.
Да ты, отец, с ним заодно, вас обоих засудить надо! — кричали на отца Павла. Но он стоял на своем мнении твердо.
Пастуху дали пять лет «условно», то есть он остался на свободе с условием, что подобное не повторится. С этого дня отец Павел по временам находил у себя под подушкой лишний кусочек хлебца.
Это пастух меня благодарил, хоть я и говорил ему, что мне хватает, не надо, — так окончил свой рассказ отец Павел.
Горько было отцу Павлу видеть, как люди под тяжестью страданий теряли чувство милосердия и не верили в него.
«А мне хотелось получить хоть какую-то весточку о своих, — рассказывал отец Павел. — И вот, как придет в лагерь новый этап заключенных, я бегу и спрашиваю: нет ли среди них ярославских. Однажды я увидел среди вновь прибывших молодую девушку, которая горько плакала. Я к ней подошел и с сочувствием спросил, о чем она так убивается. А она просто очень кушать хотела, ослабела от голода, и очень ей обидно было, что какой-то хулиган вырвал у нее из-под мышки буханку хлеба и скрылся в толпе. И никто ее не пожалел, никто не осмелился выдать вора, никто не поделился с нею хлебом. А этих людей долгие дни везли из Белоруссии и последние три дня в пути не выдавали им хлеба. Вот все и отощали, обозлились, окаменели сердцами. Я побежал в свою каморку, где у меня был спрятан кусок от недоеденного пайка, принес и подал хлеб девушке. А она не берет: «Я, — говорит, — честь свою за хлеб не продаю». «Да я от тебя ничего не требую», — говорю я. Но она — ни в какую! Жаль мне ее до слез стало. Я отдал хлеб знакомой женщине, от которой девушка и приняла его. А сам я упал на свою койку и долго-долго рыдал. Я ведь монах, я не знал чувства к женщине, но кто в это верил!».
А несчастная девушка была среди заключенных, прозванных «колоски». В начале 30-х годов колхозные поля убирались техникой. Нуждающиеся голодные крестьяне после уборки урожая снова приходили на пустые поля. Они подбирали в пучки случайно упавшие по сторонам от машины колосья с зернами, несли их домой. В селе крестьян этих арестовывали как «посягнувших на колхозное добро». Сгнили б колосья на поле, так никто бы о том из властей не пожалел. Но сердца властей были настолько очерствелые, что за пучок колосьев мать отрывали от детей, детей забирали от родителей, бедных старух сажали в тюрьмы и потом всех «провинившихся на поле» везли в далекие края, в ссылку на долгие годы. Вина этих людей состояла в том, что они от голода готовы были собрать спелые зерна из колосьев и, размолов их, испечь себе хлебные лепешки.
Отбывая срок своего заключения в лагере, Павел помогал заключенным, чем мог.
Впоследствии он рассказывал нам:
Пути, которые я обходил, шли через лес. Летом ягод там было видимо-невидимо. Надену я накомарник, возьму ведро и принесу в лагерную больницу земляники. А черники и по два ведра приносил. Мне за это двойной паек хлеба давали — плюс шестьсот граммов! Запасал я на зиму грибы, всех солеными подкармливал.
Я спросила батюшку:
А где Вы соль брали для грибов? Он ответил:
Целые составы, груженые солью, шли мимо нас. Соль огромными комьями валялась вдоль железнодорожного пути, в соли нужды не было. Выкопал я в лесу яму глубокую, обмазал ее глиной, завалил туда хворосту, дров и обжег стенки так, что они у меня звенели, как горшок глиняный! Положу на дно ямы слой грибов, солью усыплю, потом слой жердей из молодых деревьев обстругаю, наложу жердочки, а сверху опять грибов, так к осени до верху яму набью. Сверху камнями грибы придавлю, они и дадут свой сок и хранятся в рассоле, закрытые лопухами да ветвями деревьев. Питание на долгую зиму! Так же и рябину припасал — это витамины. Слой веток рябины с ягодами, слой лапника — так целый стожок сделаю. Грызуны — зайцы, суслики — боятся иголок ели и не трогают моих запасов. А вот плоды шиповника хранить было трудно: в стогах шиповник гнил, а на воле его склевывали птицы, грызуны уничтожали. Но я и шиповника много собирал для лагерных, и голубики, и брусники, только малины в том лесу не было.
В вагоне для заключенных, называемом «душегубка», отец Павел ехал в течение двух месяцев до города Павловска. Среди бандитов и воров, озлобленных, больных, голодных, терпя то холод, то жару, грязь и смрад, время для отца Павла тянулось мучительно долго. Отрадой была только сердечная молитва да общество двух священников, которые ехали в одном вагоне с отцом Павлом.
Наконец поезд остановился. Заключенных выпустили, выстроили, начали проверять по спискам. Их строили в колонны и под конвоем уводили. Куда — никто не знал, кругом простирались голые бесконечные степи. К вечеру вокзал опустел, на перроне осталось три человека, которые в списках преступников не числились. То были два священника и отец Павел. Они обратились к начальству с вопросом:
Куда нам деваться? Документов у нас нет, кругом чужие места.
Идите сами в город, там в милиции спросите, — был ответ.
Отец Павел рассказывал так: «Настала ночь. Кругом тьма непроглядная, дороги не видно. Усталые от двухмесячной тряски в вагоне, опьяненные свежим воздухом после духоты и смрада в поезде, мы шли медленно и вскоре выбились из сил. Мы спустились в какую-то ложбину, упали на душистую траву и тут же заснули крепким сном. Я проснулся до рассвета и увидел над собой звездное небо. Давно я его не видел, давно не дышал свежим воздухом. На востоке показались яркие полоски зари. «Господи! Как же хорошо! Как прекрасно душе среди природы», — возблагодарил я Бога. Оглянулся вокруг: вдали еще ночной туман все застилает, а рядом блестит полоска реки. На пригорке отец Ксенофонт стоит на коленях и Богу молится. А другой мой спутник к воде спустился, белье свое стирает. А уж какие мы были грязные и оборванные — куда страшнее нищих! С радостью вымылись мы в речной воде, выстирали с себя все, разложили сушить на травушке. Взошло солнце и ласкает нас своими горячими лучами. «Наступит день, тогда пойдем в город искать там милицию, — думаем мы, — а пока еще все спят, Богу помолимся». И вдруг слышим мы: «Бум, бум!» — плывут по реке звуки колокола.
Где-то вблизи храм! Пойдемте туда, ведь мы уже столько времени без Святого Причастия!
Рассвело. Мы увидели поселок, а среди него небольшой храм. Радости нашей было не передать! У одного из нас оказалось три рубля. Мы их отдали на свечи и за исповедь, больше у нас ни гроша не осталось. Но мы ликовали: «Мы с Богом, мы в церкви!». Отстояли мы обедню, причастились, к кресту подошли. На нас обратили внимание. Как стали все выходить, то нас окружили, расспрашивают. Народу было много, ведь был большой праздник. Нас пригласили за стол, стали угощать, с собой надавали пирожков, фруктов… Кушали мы дыни и плакали от радости и умиления: все кругом были такие ласковые, приветливые. Они нас ободряли, они узнали, что мы ссыльные, и жалели нас, так трогательно все было…
Потом нас проводили к властям — в местную милицию. Узнав, что со мной священники, в конторах все просили благословения, складывая руки и целуя нас. Вместо паспортов нам выдали справки, по которым мы должны были проживать в окрестностях Павловска и ходить отмечаться в контору. Один из нас был так слаб и хил, что ему сказали: «Ну, ты ни на какую работу не способен, еле на ногах держишься. Иди в церковь, к попам…». Этот священник вернулся в храм, чтобы там помогать, но он скоро умер, умучен уж был. А отец Ксенофонт со мной пошел в город, где мы стали искать себе работу.
Меня взяли рабочим на каменоломню дробить машиной камень для стройки. Работа тяжелая, но я, бывало, и по две нормы выполнял. Оклад был сто рублей с лишним, так что жить можно стало. Я оделся прилично, двадцать рублей платил за угол старикам, у которых квартировал. Жил я у них, как сын, все по хозяйству им помогал: и крышу покрыл, и колодец выкопал, и дом вокруг сиренью обсадил. Из колодца воду пить было нельзя — соль одна, пили речную воду Ишима. А в городе воду по талонам отпускали. Пришел приказ всем получить участки земли и иметь свое приусадебное хозяйство, притом не менее трех гектаров (три тысячи квадратных метров). Огромное поле! Я его обрабатывал, пшеницу сеял, арбузы, дыни развел. У стариков моих внучата в городе появились, вот и подумали мои хозяева корову завести. Я был не против. Пошли мы на рынок. Киргиз продавал корову по дешевке, по-своему бормотал, хаял ее: ест, мол, много, а молока почти совсем перестала давать. Я посмотрел — бока у коровы большие, не тощая, ну и купили ее. Привели, поставили в сарай, а ночью не спали — шумит наша скотина. Хозяйка насилу рассвета дождалась (ну куда же в темноте в сарай идти!). Открывает утром хлев, а там два теленочка около коровы скачут. Вот и благословил Бог нашу семью, сразу молоком и мясом стали питаться. Вот потому корова-то молока киргизу и не давала — до отела ей оставалось недолго. Возблагодарили мы Бога, стали жить-поживать да другим помогать».
В 56-м году отец Павел Груздев был реабилитирован, то есть признан ни в чем не виновным. Так прошли восемнадцать лет его жизни по тюрьмам и ссылкам. Он Господа не забывал, молился и не унывал, а помогал людям, чем мог. Старики-хозяева, у которых он жил в Казахстане, любили Павла, как сына. Когда отец Павел захотел вернуться на родину в Ярославскую область, то старики его не отпускали, об отъезде его и слышать не хотели. О своем побеге отец Павел рассказывал так: «Я отпросился у стариков-хозяев навестить родственников, которых не видел уже много лет. Я не взял с собой никаких вещей, поехал налегке, поэтому старички мне поверили. Так и остались у них все мои пожитки, потому что в Казахстан я больше не вернулся. Верна пословица: где родился — там и пригодился. Родные края, милая природа лесных массивов — все это было близко моему сердцу, и я обосновался в окрестностях Толгского монастыря».
В 60-е годы было трудно найти человека, который знал бы хорошо церковную службу. А так как отец Павел был монахом — мог в церкви и читать, и петь, и пономарить — то без работы он на родине не остался. Местный архиерей вскоре рукоположил отца Павла в священники, дал приход. И прослужил отец Павел в Ярославской области около сорока лет! Простой, отзывчивый, благоговейный иерей — он был любим и уважаем своей паствой. Слух о нем прошел далеко, отца Павла народ стал почитать как старца святой жизни. К нему потянулись люди из многих городов, ища совета, утешения и наставления в вере.
В 80-е годы батюшка болел глазами и приезжал в Москву лечиться. Он останавливался у своих духовных детей, на квартире которых я услышала от отца Павла приведенные тут рассказы о его жизни. Да послужат они в подкрепление веры, в пример заботы Господа о русском народе. В те тяжелые годы, когда, казалось, угасла вера в Бога, охладела любовь среди людей, Господь берег в отдаленных краях, среди лишений, трудов и испытаний чистую душу раба Своего Павла. И помог Господь (еще задолго до «перестройки») засиять душе этого простого священника ясной путеводной звездочкой для истомившегося в неверии и страданиях русского народа.
Печатается по книге Н.Н.Соколова. «Под кровом Всевышнего». М., 2007.
Родился Павел Александрович в 1910 году в деревне Большой Борок Мологского уезда в крестьянской семье.
Отца забрали на войну, семья стала бедствовать и в 1916 году Павел ушёл к тёткам монахине Евстолии и инокиням Елене и Ольге в мологский Афанасьевский женский монастырь; сначала пас цыплят, затем коров и лошадей, пел на клиросе. Носить подрясник восьмилетнего послушника благословил живший некоторое время в монастыре Патриарх Московский Тихон. В 1928 году признан негодным к службе в армии из-за «слабого умственного развития
». Недолгое время был судебным заседателем (из воспоминаний старца)
:
"Как-то раз приходят, говорят нам:
- Есть Постановление! Необходимо выбрать судебных заседателей из числа членов Афанасьевской трудовой артели.
От монастыря, значит.
- Хорошо,
- соглашаемся мы. - А кого выбирать в заседатели?
- А кого хотите, того и выбирайте.
Выбрали меня, Груздева Павла Александровича. Надо еще кого-то. Кого? Ольгу-председательницу, у нее одной были башмаки на высоких каблуках. Без того в заседатели не ходи. Мне-то ладно, кроме подрясника и лаптей, ничего. Но как избранному заседателю купили рубаху хорошую, сумасшедшую рубаху с отложным воротником. Ой-й! зараза, и галстук! Неделю примеривал, как на суд завязать?
Словом, стал я судебным заседателем. Идем, город Молога, Народный суд. На суде объявляют: “Судебные заседатели Самойлова и Груздев, займите свои места ”. Первым вошел в зал заседания я, за мной Ольга. Батюшки! Родные мои, красным сукном стол покрыт, графин с водой… Я перекрестился. Ольга Самойлова меня в бок толкает и шепчет мне на ухо:
- Ты, зараза, хоть не крестися, ведь заседатель!
- Так ведь не бес,
- ответил я ей.
Хорошо! Объявляют приговор, слушаю я, слушаю… Нет, не то! Погодите, погодите! Не помню, судили за что - украл он что-то, муки ли пуд или еще что? “Нет, - говорю, - слушай-ка, ты, парень - судья! Ведь пойми, его нужда заставила украсть-то. Может, дети у него голодные! ”
Да во всю-то мощь говорю, без оглядки. Смотрят все на меня и тихо так стало…
Пишут отношение в монастырь: “Больше дураков в заседатели не присылайте”. Меня, значит ", - уточнил батюшка и засмеялся.
13 мая 1941 года Павел Груздев вместе с иеромонахом Николаем и ещё 11 людьми был арестован по делу архиепископа Ярославского Варлаама (Ряшенцева). Арестованных содержали в тюрьмах Ярославля. Долгое время Павел Груздев находился в одиночной камере в полной изоляции, затем в одноместную камеру из-за нехватки мест поместили 15 человек.

(заключенный Павел Груздев, фотография из дела)
Заключённым не хватало воздуха, поэтому они, чтобы подышать, по очереди припадали к дверной щели у пола.
На допросах Павла подвергли пыткам: избивали, выбили почти все зубы, ломали кости и слепили глаза, он начал терять зрение.
Из воспоминаний старца:
"Во время допросов следователь кричал: «Ты, Груздев, если не подохнешь здесь в тюрьме, то потом мою фамилию со страхом вспоминать будешь! Хорошо её запомнишь - Спасский моя фамилия, следователь Спасский! » Отец Павел об этом рассказывал: «Прозорливый был, зараза, страха, правда не имею, но фамилию его не забыл, до смерти помнить буду. Все зубы мне повыбил, вот только один на развод оставил »."
Пасторское служение свое он начал после реабилитации в 1958 году и продолжал до самой своей кончины в 1996 году. 9 марта 1958 года в кафедральном Феодоровском соборе в Ярославле был рукоположён епископом Угличским Исаией во диакона, а 16 марта - во пресвитера. В августе 1961 года архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом пострижен в монашество.

Служил настоятелем церкви села Борзово Рыбинского района. С 1960 года настоятель Троицкой церкви села Верхне-Никульского Некоузского района (ранее Мологского уезда). Получил известность далеко за пределами села и даже области. Самые разные люди ехали к нему за благодатным утешением и решением жизненных вопросов. Учил христианской любви просто: притчами, жизненными рассказами, некоторые из которых были записаны и позднее изданы. Отец Павел был образцом христианского нестяжания: несмотря на широкую известность он очень просто питался и одевался, за всю свою жизнь не накопил никаких материальных ценностей.

В 1961 году был награждён епископом фиолетовой скуфьей, в 1963 - патриархом наперсным крестом, в 1971 - палицей, в 1976 - крестом с украшениями. С 1962 года иеромонах, с 1966 - игумен, с 1983 - архимандрит.

Отец Павел обладал даром лечить болезни, особенно кожные. Умел он и исцелять людей от такого страшного недуга, как уныние. По свидетельству протоиерея Сергия (Цветкова), даже когда отец Павел лежал слепой, с трубкой в боку, он до последнего вздоха продолжал шутить и не терял своей веселости. И исцелял людей от уныния только одним своим присутствием.
Вот как пишет об этом даре сам о. Сергий:
Впрочем, исцелял он не только от уныния. Помню, мама моя после соборования упала с крылечка и сломала себе какую-то кость в плече. Перелом был очень болезненный, причем боль не отступала ни на минуту. И врачи толком помочь не могли. И мы с мамой поехали к отцу Павлу. А он постучал по ее плечу кулаком - и все… И боль прошла. Я не скажу, что сразу кость срослась или еще что-то. Нет, заживление шло своим чередом. Но боль отступила, ушла, - а для нее тогда именно боль была самой большой тяжестью. И таких случаев было немало...
У батюшки был дар исцелять любые кожные болезни. Иногда он при мне делал лечебную мазь. Надевал епитрахиль и смешивал компоненты. Я наблюдал. Раз он мне сказал: «Вот ты знаешь состав, но у тебя ничего не получится, слово нужно знать ». По свидетельству врачей из Борка отец Павел вылечивал своей мазью любые кожные заболевания, даже те, от которых врачи отказывались. Еще старец говорил, что этот дар один человек получил от Божией Матери и передал ему. Хотя я думаю, что, возможно, он и был тем человеком. Любовь отца Павла к Царице Небесной была безгранична.
Отец Павел часто записывал свои воспоминания. Вот некоторые из них, которые вошли в книгу "Родные мои
":
Самый счастливый день (из воспоминаний старца)
:
Архимандрит Павел незадолго до смерти, в 90-х годах нашего (уже минувшего) столетья, признался: "Родные мои, был у меня в жизни самый счастливый день. Вот послушайте.
Пригнали как-то к нам в лагеря девчонок. Все они молодые-молодые, наверное, и двадцати им не было. Их "бендеровками " называли. Среди них одна красавица - коса у ней до пят и лет ей от силы шестнадцать. И вот она-то так ревит, так плачет... "Как же горько ей, - думаю, - девочке этой, что так убивается она, так плачет ".
Подошел ближе, спрашиваю... А собралось тут заключенных человек двести, и наших лагерных, и тех, что вместе с этапом. "А отчего девушка-то так ревит? " Кто-то мне отвечает, из ихних же, вновь прибывших: "Трое суток ехали, нам хлеба дорогой не давали, какой-то у них перерасход был. Вот приехали, нам за все сразу и уплатили, хлеб выдали. А она поберегла, не ела - день, что ли, какой постный был у нее. А паек-то этот, который за три дня - и украли, выхватили как-то у нее. Вот трое суток она и не ела, теперь поделились бы с нею, но и у нас хлеба нету, уже все съели ".
А у меня в бараке была заначка - не заначка, а паек на сегодняшний день - буханка хлеба! Бегом я в барак... А получал восемьсот граммов хлеба как рабочий. Какой хлеб, сами понимаете, но все же хлеб. Этот хлеб беру и бегом назад. Несу этот хлеб девочке и даю, а она мне: "Ни, не треба! Я честь свою за хлиб не продаю! " И хлеб-то не взяла, батюшки! Милые мои, родные! Да Господи! Не знаю, какая честь такая, что человек за нее умереть готов? До того и не знал, а в тот день узнал, что это девичьей честью называется.
Сунул я этот кусок ей под мышку и бегом за зону, в лес! В кусты забрался, встал на коленки... и такие были слезы у меня радостные, нет, не горькие. А думаю, Господь и скажет:
- Голоден был, а ты, Павлуха, накормил Меня.
- Когда, Господи?
- Да вот тую девку-то бендеровку. То ты Меня накормил!
Вот это был и есть самый счастливый день в моей жизни, а прожил я уж немало".
Батюшка и на меткое слово был горазд. Раз в Борках (это поселок ученых в Ярославской обл.) отец Павел сидел за столом с академиками-физиками,среди которых были и его духовные дети. Был там какой-то солидный ученый, который почти ничего не ел, и по поводу каждого блюда говорил: это мне нельзя, у меня печень больная... от этого изжога... это слишком острое... и т.п. Отец Павел слушал, слушал и прокомментировал: ГНИЛАЯ ЖОПА И С ПРЯНИКОВ ДРИЩЕТ!

И снова из воспоминаний протоиерея Сергия :
Господь продлил ему дни. Батюшка говорил: «Тех, которые меня били, которые зубы мне выбили, их, бедных; через год потом расстреляли, а мне вот Господь столько лет жизни дал ».
Иногда я спрашивал у него: «Батюшка, вот тебе Господь помогает во всем, такие глубокие вещи открывает… Это за то, что ты нес в своей жизни такой подвиг? » На эти вопросы он мне всегда отвечал: «А я ни при чем, это лагеря! » Помню, как он разговаривал с матушкой Варварой, игуменьей Толгского монастыря, и на ее похожий вопрос ответил: «Это все лагеря, если б не лагеря, я был бы просто ничто! »
Я думаю, что он имел в виду страстную природу всякого человека, особенно молодого. Действительно, именно страдания выковали из него такого удивительного подвижника, старца. Он о своем добром говорить не любил, но иногда само проскальзывало. Однажды мы шли с ним, прогуливаясь около храма. Он показал мне живописное уединенное место: «Вот здесь, бывало, я прочитывал Псалтирь от корки до корки »...
Отец Павел часто рассказывал анекдот про больного, которому делали операцию под наркозом. Он очнулся и спрашивает у человека с ключами: «Доктор, как прошла операция?
» Тот отвечает: «Я не доктор, а апостол Петр
». Этот анекдот имеет свою предысторию. А дело было так.
По рассказу отца Павла, когда ему делали тяжелую операцию по удалению желчного пузыря, он вдруг очнулся в другом мире. Там он встретил знакомого архимандрита Серафима (настоятель Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде) и с ним увидел множество незнакомых людей. Отец Павел спросил у архимандрита, что это за люди. Тот ответил: «Это те, за которых ты всегда молишься со словами: помяни, Господи, тех, кого помянуть некому, нужды ради. Все они пришли помочь тебе
». Видимо, благодаря их молитвам батюшка тогда выжил и еще много послужил людям.

В конце восьмидесятых годов отец Павел стал быстро терять зрение и почти ослеп. Служить один, без помощников он уже не мог и в 1992 году был вынужден уйти за штат по состоянию здоровья. Он поселился в Тутаеве, при Воскресенском соборе, продолжая служить и проповедовать, принимать народ, несмотря на тяжелую болезнь и плохое зрение. Священники и миряне находили у него ответы на жизненные вопросы и получали утешение.
Зрение духовное не оставляло старца. Его простая, детски чистая вера, дерзновенная, постоянная молитва доходила к Богу и приносила благодатное утешение, ощущение близкого присутствия Божия и исцеление тем, о ком он просил. Многочисленны свидетельства его прозорливости. Эти благодатные дары отец Павел скрывал под покровом юродства.
Похороны состоялись 15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, которого он особенно почитал, живя по его заповеди: "Стяжи Дух мирный - и около тебя спасутся тысячи
".
Отпевание и погребение совершил архиепископ Ярославский и Ростовский Михей в сослужении 38 священников и семи диаконов, при большом стечении народа из Москвы, Петербурга, Ярославля и других мест.
Похоронен архимандрит Павел, как он и завещал на Леонтьевском кладбище в левобережной части города Романова-Борисоглебска.

(могила архимандрита Павла Груздева на Леонтьевском кладбище в Тутаеве, служит братия Сретенского монастыря во главе с о. Тихоном Шевкуновым (ныне епископ Егорьевский Тихон))
Вот такой это был замечательный батюшка! И хоть он и не прославлен в лике святых (на сегодняшний день), но верится, что молится о. Павел пред Престолом Божьим за всех нас,грешных.
Помолись, батюшка, и о стране нашей Российской, о властех и воинстве ея, о нас, о наших сродниках и близких, о ненавидящих нас и творящих нам напасти. Помолись, отец Павел, что б Господь простил нам наши бесчисленные прегрешения и помиловал нас всех!
С любовью,
рб Дмитрий


Имя ярославского старца архимандрита Павла (Груздева) почитаемо на Валааме и на Афоне, в Москве и Петербурге, на Украине и в Сибири. При жизни отец Павел был прославлен многими дарами. Господь слышал его молитвы и откликался на них. Могучую жизнь прожил этот праведник с Богом и с народом, разделив все испытания, выпавшие на долю России в 20-м веке.
Малая родина Павла Груздева - уездный город Молога - был затоплен водами Рыбинского рукотворного моря, и мологский изгнанник стал переселенцем, а потом и лагерником, отбыв срок наказания за веру одиннадцать лет. И снова вернулся он на мологскую землю - точнее, то, что осталось от нее после затопления - и служил здесь священником в селе Верхне-Никульском почти тридцать лет и три года...
Среди всех даров архимандрита Павла замечателен его дар рассказчика: он словно исцелял собеседника живительной силой своего слова. Все, кто общался с батюшкой, кто слушал его рассказы, вспоминают в один голос, что уезжали от отца Павла "как на крыльях", настолько радостно преображался их внутренний мир. Надеемся, что и читатели батюшкиных рассказов почувствуют ту радостную духовную силу в общении с ярославским старцем. Как говорил отец Павел: "Я умру - от вас не уйду".
МОНАСТЫРСКИЙ МЕД
Вот пришли они к игумений на поклон. "В ноги бух! - рассказывал батюшка. - Игумения и говорит: "Так что делать, Павелко! Цыплят много, куриц, пусть смотрит, чтобы воронье не растащило".
Так началось для о. Павла монастырское послушание.
"Цыплят пас, потом коров пас, лошадей, - вспоминал он. - Пятьсот десятин земли! Ой, как жили-то...
Потом - нечего ему, то есть мне, Павелке, - к алтарю надо приучать! Стал к алтарю ходить, кадила подавать, кадила раздувать..."
"Шибко в монастыре работали," - вспоминал батюшка. В поле, на огороде, на скотном дворе, сеяли, убирали, косили, копали - постоянно на свежем воздухе. А люди в основном молодые, все время хотелось есть. И вот Павелка придумал, как накормить сестер-послушниц медом:
"Было мне в ту пору годков пять-семь, не больше. Только-только стали мед у нас качать на монастырской пасеке, и я тут как тут на монастырской лошадке мед свожу. Распоряжалась медом в монастыре только игумения, она и учет меду вела. Ладно!
А медку-то хочется, да и сестры-то хотят, а благословения нет.
Не велено нам меду-то есть.
Матушка игумения, медку-то благословите!
Не положено, Павлуша, - отвечает она.
Ладно, - соглашаюсь,- как хотите, воля ваша.
А сам бегом на скотный двор бегу, в голове план зреет, как меду-то раздобыть. Хватаю крысу из капкана, которая побольше, и несу к леднику, где мед хранят. Погоди, зараза, и мигом с нею туда.
Ветошью-то крысу медом вымазал, несу:
Матушка! Матушка! - а с крысы мед течет, я ее за хвост держу:
Вот в бочонке утонула!
А крику, что ты! Крыса сроду меда не видела и бочонка того. А для всех мед осквернен, все в ужасе - крыса утонула!
Тащи, Павелка, тот бочонок и вон его! - игумения велит. - Только-только чтобы его близко в монастыре не было!
Хорошо! Мне то и надо. Давай, вези! Увез, где-то там припрятал...
Пришло воскресенье, идти на исповедь... А исповедывал протоиерей о. Николай (Розин), умер он давно и похоронен в Мологе.
Отец Николай, батюшка! - начинаю я со слезами на глазах. - Стыдно! Так, мол, и так, бочонок меду-то я стащил. Но не о себе думал, сестер пожалел, хотел угостить...
Да, Павлуша, грех твой велик, но то, что попечение имел не только о себе, но и о сестрах, вину твою смягчает... - А потом тихо так он мне в самое ушко-то шепчет: "Но если мне, сынок, бидончик один, другой нацедишь... Господь, видя твою доброту и раскаяние, грех простит! Только, смотри, никому о том ни слова, а я о тебе, дитя мое, помолюсь".
Да Господи, да Милостивый, Слава Тебе! Легко-то как! Бегу, бидончик меду-то протоиерею несу. В дом ему снес, попадье отдал. Слава Тебе, Господи! Гора с плеч".
Эта история с монастырским медом стала уже народной легендой, потому и рассказывают ее по-разному. Одни говорят, что была не крыса, а мышь. Другие добавляют, что эту мышь поймал монастырский кот Зефир, а в просторечии - Зифа. Третьи уверяют, что Павелка пообещал игумений помолиться "о скверноядших", когда станет священником... Но мы передаем эту историю так, как рассказал ее сам батюшка, и ни слова больше!
"...TO ЗВЕЗДА МЛАДЕНЦА И ЦАРЯ ЦАРЕЙ"
Очень любил Павелка ходить на коляды в Рождество и Святки. По монастырю ходили так - сначала к игумении, потом к казначее, потом к благочинной и ко всем по порядку. И он тоже заходит к игумении: "Можно поколядовать?"
Матушка игумения! - кричит келейница. - Тут Павелко пришел, славить будет.
"Это я-то Павелко, на ту пору годов шести, - рассказывал батюшка. - В келью к ней не пускают, потому в прихожке стою. Слышу голос игумений из кельи: "Ладно, пусть славит!" Тут я начинаю:
Славите, славите,
сами про то знаете.
Я Павелко маленькой,
славить не умею,
а просить не смею.
Матушка игумения,
дай пятак!
Не дашь пятак, уйду и так.
Ух-х! А цолковый, знаешь какой? Не знаешь! Серебряный и две головы на нем - государь Император Николай Александрович и царь Михаил Феодорович, были тогда такие юбилейные серебряные рубли. Слава Богу! А дальше я к казначее иду - процедура целая такая... Казначеей была мать Поплия. Даст мне полтинничек, еще и конфет впридачу".
Ох, и хитер ты был, отец Павел, - перебивает батюшку его келейница Марья Петровна. - Нет-таки к простой монахине идти! А все к игуменье, казначее!
У простых самих того.., сама знаешь, Маруся, чего! Цолковый у них, хоть и целый день ори, не выклянчишь, - отшучивается отец Павел и продолжает свой рассказ:
"От казначеи - к благочинной. Сидит за столом в белом апостольнике, чай пьет.
Матушка Севастиана! - кричит ей келейница. - Павелко пришел, хочет Христа славить.
Она, головы не повернув, говорит: "Там на столе пятачок лежит, дай ему, да пусть уходит".
Уходи, - всполошилась келейница. - Недовольна матушка благочинная.
И уже больше для благочинной, чем для меня, возмущается: "Ишь, сколько грязи наносил, насляндал! Половички какие чистые да стиранные! Уходи!"
Развернулся, не стал и пятачок у ней брать. Ладно, думаю... Вот помрешь, по тебе тужить не буду! И в колокол звонить не пойду, так и знай, матушка Севастиана! А слезы-то у меня по щекам рекой... Обидели".
 Звонить в колокол - тоже было послушание маленького Павелки. Как говорил батюшка: "Мой трудовой доход в монастыре". "Умирает, к примеру, мантийная монахиня, - рассказывает отец Павел. - Тут же приходит гробовая - Фаина была такая, косоротая - опрятывать тело усопшей, и мы идем с нею на колокольню. Час ночи или час дня, ветер, снег или дождь с грозой: "Павелко, пойдем". Забираемся мы на колокольню, ночью звезды и луна близко, а днем земля далеко-далеко, Молога как на ладошке лежит, вся, словно ожерельями, обвита реками вокруг. Летом - бурлаки по Мологе от Волги баржи тащут, зимой - все белым-бело, весной в паводок русла рек не видать, лишь бескрайнее море... Гробовая Фаина обвязывает мантейкой язык колокола, того, что на 390 пудов. Потянула Фаина мантейкой за язык - бу-у-м-м, и я с нею - бу-м-м! По монастырскому обычаю, на каком бы кто послушании ни был, все должны положить три поклона за новопреставленную. Корову доишь или на лошади скачешь, князь ты или поп - клади три поклона земных! Вся Русь так жила - в страхе перед Богом...
Звонить в колокол - тоже было послушание маленького Павелки. Как говорил батюшка: "Мой трудовой доход в монастыре". "Умирает, к примеру, мантийная монахиня, - рассказывает отец Павел. - Тут же приходит гробовая - Фаина была такая, косоротая - опрятывать тело усопшей, и мы идем с нею на колокольню. Час ночи или час дня, ветер, снег или дождь с грозой: "Павелко, пойдем". Забираемся мы на колокольню, ночью звезды и луна близко, а днем земля далеко-далеко, Молога как на ладошке лежит, вся, словно ожерельями, обвита реками вокруг. Летом - бурлаки по Мологе от Волги баржи тащут, зимой - все белым-бело, весной в паводок русла рек не видать, лишь бескрайнее море... Гробовая Фаина обвязывает мантейкой язык колокола, того, что на 390 пудов. Потянула Фаина мантейкой за язык - бу-у-м-м, и я с нею - бу-м-м! По монастырскому обычаю, на каком бы кто послушании ни был, все должны положить три поклона за новопреставленную. Корову доишь или на лошади скачешь, князь ты или поп - клади три поклона земных! Вся Русь так жила - в страхе перед Богом...
И вот эта мантейка висит на языке колокола до сорокового дня, там уже от дождя, снега или ветра одни лоскутки останутся. В сороковой день соберут эти лоскутки - и на могилку. Панихиду отслужат и мантейку ту в землю закопают. Касалось это только мантийных монахинь, а всех остальных хоронили, как обычно. А мне за то - Павелко всю ночь и день сидит на колокольне - рубль заплатят. Слава Богу, умирали не часто".
"ГОЛОДЕН БЫЛ, А ТЫ НАКОРМИЛ МЕНЯ"
13 мая 1941 года Павел Александрович Груздев был арестован по делу архиепископа Варлаама Ряшенцева.
Лагпункт, где шесть лет отбывал срок о.Павел, находился по адресу: Кировская область, Кайский район, п/о Волосница. Вятские исправительно-трудовые лагеря занимались заготовкою дров для Пермской железной дороги, и заключенному № 513 -этим номером называл себя о. Павел - поручено было обслуживать железнодорожную ветку, по которой из тайги вывозился лес с лесоповала. Как обходчику узкоколейки, ему разрешалось передвигаться по тайге самостоятельно, без конвоира за спиной, он мог в любое время пройти в зону и выйти из нее, завернуть по дороге в вольный поселок. Бесконвойность - преимущество, которым очень дорожили в зоне. А время было военное, то самое, о котором говорят, что из семи лагерных эпох самая страшная - война: "Кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал". С начала войны был урезан и без того до невозможности скудный лагерный паек, ухудшались с каждым годом и сами продукты: хлеб - сырая черная глина, "черняшка"; овощи заменялись кормовою репою, свекольной ботвой, всяким мусором; вместо круп - вика, отруби.
Многих людей спас о. Павел в лагере от голодной смерти. В то время как бригаду заключенных водили к месту работы два стрелка, утром и вечером - фамилии стрелков были Жемчугов да Пухтяев, о. Павел запомнил - зека № 513 имел пропуск на свободный выход и вход в зону: "Хочу в лес иду, а хочу и вдоль леса... Но чаще в лес - плетеный из веточек пестель в руки беру и - за ягодами. Сперва землянику брал, потом морошку и бруснику, а грибов-то! Ладно. Ребята, лес-то рядом! Господи Милостивый, слава Тебе!"
Что удавалось пронести через проходную в лагерь, о. Павел менял в санчасти на хлеб, кормил ослабших от голода товарищей по бараку. А барак у них был - сплошь 58-я статья: монахи, немцы с Поволжья сидели, интеллигенция. Встретил о. Павел в лагерях старосту из тутаевского собора, тот умер у него на руках.
На зиму делал запасы. Рубил рябину и складывал в стога. Их потом засыплет снегом и бери всю зиму. Солил грибы в самодельных ямах: выкопает, обмажет изнутри глиной, накидает туда хворосту, разожжет костер. Яма становится как глиняный кувшин или большая чаша. Навалит полную яму грибов, соли где-то на путях раздобудет, пересыплет солью грибы, потом придавит сучьями. "И вот, - говорит, - несу через проходную - ведро охранникам, два ведра в лагерь".
Однажды в тайге встретил о. Павел медведя: "Ем малину, а кто-то толкается. Посмотрел - медведь. Не помню, как до лагеря добежал". В другой раз чуть было не пристрелили его спящего, приняв за беглого зека. "Набрал я как-то ягод целый пестель, - рассказывал батюшка. - Тогда земляники много было, вот я ее с горой и набрал. А при этом уставший - то ли с ночи шел, то ли еще чего-то - не помню теперь. Шел-шел к лагерю, да и прилег на траву. Документы мои, как положено, со мною, а документы какие? Пропуск на работу. Прилег, значит, и сплю - да так сладко, так хорошо в лесу на лоне природы, а пестель с этой земляникой у меня в головах стоит. Вдруг слышу, кто-то в меня шишками бросает - прямо в лицо мне. Перекрестился я, открыл глаза, смотрю - стрелок!
А-а! Сбежал?..
Гражданин начальник, нет, не сбежал, - отвечаю.
Документ имеешь? - спрашивает.
Имею, гражданин начальник, - говорю ему и достаю документ. Он у меня всегда в рубашке лежал в зашитом кармане, вот здесь - на груди у сердца. Поглядел, поглядел он документ и так, и этак.
Ладно, - говорит, - свободен!
Гражданин начальник, вот земляники-то поешьте, - предлагаю я ему.
Ладно, давай, - согласился стрелок.
Положил винтовку на траву... Родные мои, земляника-то с трудом была набрана для больных в лагерь, а он у меня половину-то и съел. Ну да Бог с ним!"
"БОЛЕН БЫЛ, А ВЫ ПОСЕТИЛИ МЕНЯ"
В медсанчасти, где менял Павел Груздев ягоды на хлеб, работали два доктора, оба из Прибалтики - доктор Берне, латыш, и доктор Чаманс. Дадут им указание, разнарядку в санчасть: "Завтра в лагере ударный рабочий день" - Рождество, к примеру, или Пасха Христова. В эти светлые христианские праздники заключенных заставляли работать еще больше - "перевоспитывали" ударным трудом. И предупреждают докторов, таких же заключенных: "Чтобы по всему лагпункту более пятнадцати человек не освобождать!" И если врач не выполнит разнарядку, он будет наказан - могут и срок добавить. А доктор Берне освободит от работы тридцать человек и список тот несет на вахту...
"Слышно: "Кто?!" - рассказывал отец Павел. - "Мать-перемать, кто, фашистские морды, список писал?"
Вызывают его, доктора нашего, согнут за то, как положено:
"Завтра сам за свое самоуправство пойдешь три нормы давать!"
Ладно! Хорошо!
Так скажу вам, родные мои ребята. Я не понимаю в красоте телесной человеческой, в душевной-то я понимаю, а тут я понял! Вышел он на вахту с рабочими, со всеми вышел... Ой, красавец, сумасшедший красавец и без шапки! Стоит без головного убора и с пилой... Думаю про себя: "Матерь Божия, да Владычице, Скоропослушнице! Пошли ему всего за его простоту и терпение!" Конечно, мы его берегли и в тот день увели от работы. Соорудили ему костер, его рядом посадили. Стрелка подкупили: "На вот тебе! Да молчи ты, зараза!"
Так доктор и сидел у костра, грелся и не работал. Если он жив, дай ему, Господи, доброго здоровья, а если помер - Господи! Пошли ему Царствие Небесное, по завету Твоему: "Болен был, а вы посетили Меня!"
ЛЕСНАЯ ЛИТУРГИЯ
Разные людские потоки в разные годы лились в лагеря - то раскулаченные, то космополиты, то срубленная очередным ударом топора партийная верхушка, то научно-творческая интеллигенция, идейно не угодившая Хозяину - но всегда и в любые годы был единый общий поток верующих - "какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них - и следующие заступают, и опять идут. Твердость, не виданная в XX веке!" Это строки из "Архипелага Гулаг".
Словно в первые христианские века, когда богослужение совершалось зачастую под открытым небом, православные молились ныне в лесу, в горах, в пустыне и у моря.
В уральской тайге служили Литургию и заключенные Вятских исправительно-трудовых лагерей.
Были там два епископа, несколько архимандритов, игумены, иеромонахи и просто монахи. А сколько было в лагере верующих женщин, которых всех окрестили "монашками", смешав в одну кучу и безграмотных крестьянок, и игумений различных монастырей. По словам отца Павла, "была там целая епархия!" Когда удавалось договориться с начальником второй части, ведавшей пропусками, "лагерная епархия" выходила в лес и начинала богослужение на лесной поляне. Для причастной чаши готовили сок из различных ягод, черники, земляники, ежевики, брусники - что Бог пошлет, престолом был пень, полотенце служило как сакос, из консервной банки делали кадило. И архиерей, облаченный в арестантское тряпье, - "разделиша ризы Моя себе и об одежде Моей меташа жребий... "-предстоял лесному престолу как Господню, ему помогали все молящиеся.
"Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите", - пел хор заключенных на лесной поляне... Как молились все, как плакали - не от горя, а от радости молитвенной...
При последнем богослужении (что-то случилось в лагпункте, кого-то куда-то переводили) молния ударила в пень, служивший престолом - чтобы не сквернили его потом. Он исчез, а на его месте появилась воронка, полная чистой прозрачной воды. Охранник, видевший все своими глазами, побелел от страха, говорит: "Ну, вы все здесь святые!"
Были случаи, когда вместе с заключенными причащались в лесу и некоторые из охранников-стрелков.
Шла Великая Отечественная война, начавшаяся в воскресенье 22 июня 1941 года - в День Всех Святых, в земле Российской просиявших, и помешавшая осуществиться государственному плану "безбожной пятилетки", по которому в России не должно было остаться ни одной церкви. Что помогло России выстоять и сохранить православную веру - разве не молитвы и праведная кровь миллионов заключенных - лучших христиан России?
Высокие сосны, трава на поляне, престол херувимский, небо... Причастная зековская чаша с соком из лесных ягод:
"...Верую, Господи, что сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть честная кровь Твоя... иже за ны и за многих проливаемая во оставление грехов..."
САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
Много написано в XX веке об ужасах и страданиях лагерей. Архимандрит Павел уже незадолго досмерти, в 90-х годах нашего (уже минувшего) столетья, признался:
"Родные мои, был у меня в жизни самый счастливый день. Вот послушайте.
Пригнали как-то к нам в лагеря девчонок. Все они молодые-молодые, наверное, и двадцати им не было. Их "бендеровками" называли. Среди них одна красавица - коса у ней до пят и лет ей от силы шестнадцать. И вот она-то так ревет, так плачет... "Как же горько ей, - думаю, - девочке этой, что так убивается она, так плачет".
Подошел ближе, спрашиваю... А собралось тут заключенных человек двести, и наших лагерных, и тех, что вместе с этапом. "А отчего девушка-то так ревет?" Кто-то мне отвечает, из ихних же, вновь прибывших: "Трое суток ехали, нам хлеба дорогой не давали, какой-то у них перерасход был. Вот приехали, нам за все сразу и уплатили, хлеб выдали. А она поберегла, не ела - день, что ли, какой постный был у нее. А паек-то этот, который за три дня - и украли, выхватили как-то у нее. Вот трое суток она и не ела, теперь поделились бы с нею, но и у нас хлеба нету, уже все съели".
А у меня в бараке была заначка - не заначка, а паек на сегодняшний день - буханка хлеба! Бегом я в барак... А получал восемьсот граммов хлеба как рабочий. Какой хлеб, сами понимаете, но все же хлеб. Этот хлеб беру и бегом назад. Несу этот хлеб девочке и даю, а она мне: "Hi, не треба! Я честi своеi за хлiб не продаю!" И хлеб-то не взяла, батюшки! Милые мои, родные! Да Господи! Не знаю, какая честь такая, что человек за нее умереть готов? До того и не знал, а в тот день узнал, что это девичьей честью называется!
Сунул я этот кусок ей под мышку и бегом за зону, в лес! В кусты забрался, встал на коленки... и такие были слезы у меня радостные, нет, не горькие. А думаю, Господь и скажет:
Голоден был, а ты, Павлуха, накормил Меня.
Когда, Господи?
Да вот тую девку-то бендеровку. То ты Меня накормил! Вот это был и есть самый счастливый день в моей жизни, а прожил я уж немало".
УМЕР "ВЕЧНО ЖИВОЙ"
Так день за днем, месяц за месяцем наступил и 53-й год. "Прихожу с работы домой, -вспоминал о. Павел, - дедушка мне и говорит:
Сынок, Сталин умер!
Деда, молчи. Он вечно живой. И тебя, и меня посадят. Завтра утром мне снова на работу, а по радио передают, предупреждают, что когда похороны Сталина будут, "гудки как загудят все! Работу прекратить - стойте и замрите там, где вас гудок застал, на минуту-две..." А со мною в ссылке был Иван из Ветлуги, фамилия его Лебедев. Ой, какой хороший мужик, на все руки мастер! Ну все, что в руки ни возьмет - все этими руками сделает. Мы с Иваном на верблюдах тогда работали. У него верблюд, у меня верблюд. И вот на этих верблюдах-то мы с ним по степи едем. Вдруг гудки загудели! Верблюда остановить надо, а Иван его шибче лупит, ругает. И бежит верблюд по степи, и не знает, что Сталин умер!"
Так проводили Сталина в последний путь рясофорный Павел Груздев из затопленной Мологи и мастер на все руки из старинного городка Ветлуга Иван Лебедев. "А уж после похорон Сталина молчим - никого не видали, ничего не слыхали".
И вот снова ночь, примерно час ночи. Стучатся в калитку:
Груздев здесь?
Что ж, ночные посетители - дело привычное. У отца Павла мешок с сухарями всегда наготове. Выходит:
Собирайся, дружок! Поедешь с нами!
"Дедушко ревет, бабушка ревет... - Сынок! Они за столько лет уже привыкли ко мне, - рассказывал о. Павел. - Ну, думаю, дождался! На Соловки повезут! Все мне на Соловки хотелось.. Нет! Не на Соловки. Сухари взял, четки взял - словом, все взял. Господи! Поехали. Гляжу, нет, не к вокзалу везут, а в комендатуру. Захожу. Здороваться нам не ведено, здороваются только с настоящими людьми, а мы - арестанты, "фашистская морда". А что поделаешь? Ладно. Зашел, руки вот так, за спиной, как положено - за одиннадцать годов-то пообвык, опыта набрался. Перед ними стоишь, не то чтобы говорить - дышать, мигать глазами и то боишься.
Товарищ Груздев!
Ну, думаю, конец света. Все "фашистская морда", а тут товарищ.
Садитесь, свободно, - меня, значит, приглашают.
Хорошо, спасибо, но я постою, гражданин начальник.
Нет, присаживайтесь!
У меня штаны грязные, испачкаю.
Садитесь!
Все-таки сел я, как сказали.
Товарищ Груздев, за что отбываете срок наказания?
Так ведь фашист, наверное? - отвечаю.
Нет, вы не увиливайте, серьезно говорите.
Сроду не знаю. Вот у вас документы лежат на меня, вам виднее.
Так по ошибке, - говорит он.
Слава Тебе Господи! Теперь на Соловки свезут, наверное, когда по ошибке-то... Уж очень мне на Соловки хотелось, святым местам поклониться. Но дальше слушаю.
 - Товарищ Груздев, вот вам справка, вы пострадали невинно. Культ личности. Завтра со справкой идите в милицию. На основании этой бумаги вам выдадут паспорт. А мы вас тайно предупреждаем... Если кто назовет вас фашистом или еще каким-либо подобным образом - вы нам, товарищ Груздев, доложите! Мы того гражданина за это привлечем. Вот вам наш адрес.
- Товарищ Груздев, вот вам справка, вы пострадали невинно. Культ личности. Завтра со справкой идите в милицию. На основании этой бумаги вам выдадут паспорт. А мы вас тайно предупреждаем... Если кто назовет вас фашистом или еще каким-либо подобным образом - вы нам, товарищ Груздев, доложите! Мы того гражданина за это привлечем. Вот вам наш адрес.
Ой, ой, ой! - замахал руками. - Не буду, не буду, гражданин начальник, упаси Господь, не буду. Не умею я, родной...
Господи! А как стал говорить-то, лампочка надо мной белая-белая, потом зеленая, голубая, в конце концов стала розовой... Очнулся спустя некоторое время, на носу вата. Чувствую, за руку меня держат и кто-то говорит: "В себя пришел!"
Что-то они делали мне, укол какой, еще что... Слава Богу, поднялся, извиняться стал. "Ой да извините, ой да простите". Только, думаю, отпустите. Ведь арестант, неловко мне...
Ладно, ладно, - успокоил начальник. - А теперь идите!
А одиннадцать годков?
Нету, товарищ Груздев, нету!
Лишь укол мне сунули на память ниже талии... Потопал я". Два дня понадобилось, чтобы оформить паспорт - "он и теперь еще у меня живой лежит", как говорил о. Павел. На третий день вышел Груздев на работу. А бригадиром у них был такой товарищ Миронец - православных на дух не принимал и сам по себе был очень злобного нрава. Девчонки из бригады про него пели: "Не ходи на тот конец, изобьет тя Миронец!"
Ага! - кричит товарищ Миронец, только-только завидев Груздева. - Шлялся, с монашками молился!
Да матом на чем свет кроет.
Поповская твоя морда! Ты опять за свое! Там у себя на ярославщине вредил, гад, диверсии устраивал, и здесь вредишь, фашист проклятый! План нам срываешь, саботажник!
Нет, гражданин начальник, не шлялся, - отвечает Груздев спокойно. - Вот документ оправдательный, а мне к директору Облстройконторы надо, извините.
Зачем тебе, дураку, директор? - удивился товарищ Миронец.
Там в бумажке все указано.
Прочитал бригадир бумагу:
Павлуша!..
Вот тебе и Павлуша, - думает Груздев.
Разговор в кабинете директора получился и вовсе обескураживающим.
А! Товарищ Груздев, дорогой! Садитесь, не стойте, вот вам и стул приготовлен, - как лучшего гостя встретил директор "товарища Груздева", уже осведомленный о его делах. - Знаю, Павел Александрович, все знаю. Ошибочка у нас вышла.
Пока директор рассыпается мелким бисером, молчит Груздев, ничего не говорит. А что скажешь?
Мы вот через день-другой жилой дом сдаем, - продолжает директор Облстройконторы, - там есть и лепта вашего стахановского труда. Дом новый, многоквартирный. В нем и для вас, дорогой Павел Александрович, квартира имеется. Мы к вам за эти годы присмотрелись, видим, что вы - честный и порядочный гражданин. Вот только беда, что верующий, но на это можно закрыть глаза.
А что ж я делать буду в доме вашем-то? - удивляется Груздев странным словам директора, а сам думает: "К чему все это клонится?"
Жениться вам нужно, товарищ Груздев, семьей обзавестись, детьми, и работать! - довольный своим предложением, радостно заключает директор.
Как жениться? - оторопел Павел. - Ведь я монах!
Ну и что! Ты семью заведи, деток, и оставайся себе монахом... Кто же против того? Только живи и трудись!
Нет, гражданин начальник, спасибо вам за отцовское участие, но не могу, -поблагодарил Павел Груздев директора и, расстроенный, вернулся к себе на улицу Крупскую. Не отпускают его с производства! Как ни говорите, а домой охота... Тятя с мамой, сестренки - Олька со шпаной, Таня, Лешка, Санька Фокан... Пишет Павлуша письмо домой: "Тятя! Мама! Я уже не арестант. Это было по ошибке. Я не фашист, а русский человек".
"Сынок! - отвечает ему Александр Иванович Груздев. - У нас в семье вора сроду не было, не было и разбойника. И ты не вор и не разбойник. Приезжай, сынок, похорони наши косточки".
Снова идет Павел Груздев к директору Облстройконторы:
Гражданин начальник, к тяте бы с мамой съездить, ведь старые уже, помереть могут, не дождавшись!
Павлуша, чтобы поехать, вызов тебе нужен! - отвечает начальник. - А без вызова не имею права тебя отпустить.
Пишет Павел Груздев в Тутаев родным - так, мол, и так, без вызова не пускают. А сестра его Татьяна, в замужестве Юдина, всю жизнь работала фельдшером-акушером. Дежурила она как-то раз ночью в больнице. Господь ей и внушил: открыла она машинально ящик письменного стола, а там печать и бланки больничные. Отправляет телеграмму: "Северный Казахстан, город Петропавловск, Облпромстройконтора, начальнику. Просим срочно выслать Павла Груздева, его мать при смерти после тяжелых родов, родила двойню".
А матери уж семьдесят годков! Павлуша как узнал, думает: "С ума я сошел! Или Танька чего-то мудрит!" Но вызывают его к начальству:
Товарищ Груздев, собирайтесь срочно в дорогу! Все про вас знаем. С одной стороны, рады, а с другой стороны, скорбим. Может, вам чем подсобить? Может, няню нужно?
Нет, гражданин начальник, - отвечает Павел. - Крепко вас благодарю, но поеду без няни.
Как хотите, - согласился директор.
"Сейчас и пошутить можно, - вспоминал батюшка этот случай. - А тогда мне было не до смеху. На таком веку - покрутишься, и на спине, и на боку!"
"ДА ВЫЗДОРОВЕЕТ ТВОЯ ДАШКА!"
"Велика была его молитва, - говорят об отце Павле. - Велико его благословение. Истинные чудеса".
"На самой службе он стоял словно какой-то столп духовный, - вспоминают о батюшке. - Молился всей душой, как гигант, этот маленький ростом человек, и все присутствовали как на крыльях на его молитве. Такая она была - из самого сердца. Голос громкий, сильный. Иногда, когда совершит таинство причастия, он просил Господа по-простому, как своего отца: "Господи, помоги там Сережке, что-то с семьей..." Прямо у престола - и этому помоги, и этому... Во время молитвы всех перечислял на память, а память у него была, конечно, превосходная".
"Родилась у нас Дашенька, внучка моя, - рассказывает одна женщина. - А дочь, когда была беременна, на Успенский пост отмечала свой день рождения - с пьянками, с гулянками. Я ей говорю: "Побойся Бога, ведь ты же беременна". И когда родился ребенок, определили у него шумы в сердце, очень серьезно - на дыхательном клапане дырка. И девочка задыхалась. Еще днем туда-сюда, она плачет, а ночами вообще задыхается. Врачи сказали, что если доживет она до двух с половиной лет, будем делать операцию в Москве в институте. Раньше нельзя.
И вот я к отцу Павлу все и бегала: "Батюшка, помолись!" А он ничего не говорил. Вот приду, скажу - и ничего не говорит. Прожила Даша 2,5 года. Присылают нам вызов на операцию. Бегу к батюшке. "Батюшка, что делать? Вызов на операцию пришел, ехать или не ехать? А он говорит: "Причасти и езжайте". Вот они поехали. Они там в больнице, а я плачу, да все к батюшке бегаю: "Батюшка, помолись!" А потом он мне так сердито говорит: "Да выздоровеет твоя Дашка!" И слава Богу, вот - Дашка его молитвами выздоровела".
"Господь слышал молитву о. Павла быстрее, чем других, - вспоминает один священник. - Кто приедет к нему, у кого что болит - батюшка постучит так запросто по спине или потреплет за ухо: "Ну ладно, все, будешь здоров, не беспокойся" А сам-то пойдет в алтарь и молится за человека. Господь услышит его молитву и поможет этому человеку. Конечно, явно я не могу сказать- вот хромал, подошел к о. Павлу и сразу запрыгал.
Не всегда это явно. Человек скорбел-скорбел, а помолился у о Павла, исповедался, причастился, пообщался, попросил его молитв, так все постепенно и отлегло. Пройдет неделя, а он уже здоров". "Молитва везде действует, хотя не всегда чудодействует, " - записано в тетрадях о. Павла. "На молитву надо вставать поспешно, как на пожар, а наипаче монахам". "Господи! Молитвами праведников помилуй грешников".
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОСЛУШНИКОМ
Очень много духовенства окормлялось у о. Павла, и с годами все больше и больше, так что в Верхне-Никульском образовалась своя "кузница кадров", или "Академия дураков", как шутил о. Павел. И это была настоящая духовная Академия, по сравнению с которой меркли Академии столичные. Духовные уроки архимандрита Павла были просты и запоминались на всю жизнь.
- "Как-то раз я задумался, мог бы я быть таким послушником, чтобы беспрекословно выполнять все послушания, - рассказывает батюшкин воспитанник, священник. - Ну а что, наверное, смог бы! Что скажет батюшка, то я бы и делал. Приезжаю к нему - а он, как вы знаете, частенько на мысли отвечал действием или каким-нибудь рассказом. Он меня, как обычно, сажает за стол, тут же Марья начинает что-то разогревать.
Он приносит щей, наливает. Щи были удивительно невкусные. Из какого-то концентрата - а я только что причастился - и сверху сало плавает. И огромная тарелка. Я с большим трудом съел Он. "Давай, давай-ка еще!" И несется с остатком в кастрюле - вылил мне все - ешь, доедай! Я думал, меня сейчас стошнит. И я исповедал собственными устами: "Такого послушания, батюшка, я выполнить не могу!" Так он меня обличил.
Отец Павел умел дать почувствовать человеку духовное состояние - радость, смирение... "Однажды накануне "Достойной" - было много духовенства у него - он мне говорит: "Батюшка, ты сегодня будешь ризничий!" - вспоминает один из священников. - "Вот эта риза - самая красивая, надень, и другим выдашь". И, наверно, все-таки какое-то тщеславие у меня было:"Вот, какая риза красивая!" И буквально через несколько минут - отец Павел был дома, а я в церкви, он как-то почувствовал мое состояние - летит - "Ну-ка, снимай ризу!" И отец Аркадий из Москвы приехал, к нам заходит "Отдай отцу Аркадию!"
Меня как молнией с головы до пят прошибло - я так смирился. И в этом состоянии чувствовал себя как на небесах - в каком-то благоговении, в радостном присутствии чего-то важного, т.е. он дал мне понять, что такое смирение. Я надел самую старенькую ризу, но был самый счастливый в эту службу".
«Последний монах» – так называл себя отец Павел. С ранних лет он воспитывался и рос в монастырях – ребенком жил у своей тетки в Мологском Афанасьевском женском монастыре, выполняя монастырские послушания, позднее – в Варлаамо-Хутынском монастыре. Из рук святителя Тихона, который правил в те годы Ярославской епархией, принял маленький Павел подрясник, ремень, скуфейку и четки, принял как благословение на монашество. И хотя отец Павел был пострижен в монахи поздно, когда ему уже было за пятьдесят лет, он всю жизнь считал себя иноком и жил по-монашески – даже в заключении, в лагере, в ссылке.
«Иногда я (протоиерей Сергий Цветков. – Ред.) спрашивал у него: „Батюшка, вот тебе Господь помогает во всем, такие глубокие вещи открывает... Это за то, что ты нес в своей жизни такой подвиг?“ На эти вопросы он мне всегда отвечал: „А я ни при чем, это лагеря!“ Помню, как он разговаривал с матушкой Варварой, игуменьей Толгского монастыря, и на ее похожий вопрос ответил: „Это все лагеря, если б не лагеря, я был бы просто ничто!“
Он не был насельником монастыря, тридцать лет прослужил в сельском храме, но слава о прозорливом старце распространялась среди верующих людей, и многие ехали в ярославскую глубинку за советом и утешением.
«Все мы, кто общался с батюшкой, – вспоминает протоиерей Сергий Цветков, – знаем, что Господь наделил его даром прозорливости. Хотя, как человек смиренный, он этот дар тщательно скрывал ото всех. У него был особый дар совета. Все советы, которые он давал, были не то что полезны, а – спасительны. Очень глубоко он судил о жизненных случаях, ситуациях, которые происходили с его чадами. Его талантливость проявлялась даже в почерке: у него был ровный, абсолютно каллиграфический почерк, какого в наше время уже не встретишь.
Конечно, его таланты, в частности дар совета, имели духовную основу. За этой глубиной понимания стоял огромный опыт, молитвенный труд, знание духовной жизни. Сколько раз, когда я спрашивал его о каком-нибудь человеке (которого он, кстати, в глаза никогда не видел!), он так метко и верно его оценивал, что я поражался... Особо мне хотелось бы сказать о подвиге юродства, который нес батюшка. Его юродство было очень тонкое, иногда на грани разумного, иногда вроде и переходя эту грань. Но если начать обдумывать – ничего неразумного в его поступках не было. Была парадоксальность, которой отличается поведение юродивых».
В конце восьмидесятых годов отец Павел почти ослеп и в 1992 году был вынужден уйти за штат, поселился в Тутаеве, при Воскресенском соборе, где, несмотря на болезнь, служил, проповедовал, принимал народ.
«Старец был одним из тех немногих уходящих подвижников и исповедников веры, которых Господь хранил для Русской Церкви конца XX века, – писал об отце Павле Сергий Цветков. – Он был живым источником благодати и милости Божией. Вся его жизнь – подвиг и во многом вдохновляющий пример для подражания.
Читая воспоминания об отце Павле, невольно задумываешься: а был ли какой вид подвига, который бы отец Павел не совершил? Или какая заповедь, которую бы он не исполнил? Служение ближнему? – Он ухаживал за больными и помогал слабым. Служение Богу? – Он был исповедником и страдальцем за Него. Гостеприимство? – Он славился им на всю округу: всех поил и кормил с радушием. Спрошу еще, был ли он милосердным? – Да. Он утешал скорбящие сердца, тайно творил милостыню и учил этому других. Был ли он усердным молитвенником? – Да. Его горячая пастырская была искренней, сердечной, действенной. И простираясь, словно столп огненный, от земли до неба, была по-детски простодушной. Исполнил ли он заповедь странноприимства? – Вполне. Он всех приезжих всегда устраивал на ночлег. Можно ли нам его самого назвать странником? – Да. И этот подвиг имел место в его жизни. Он очень любил ездить по святым местам, он также был странником и пришельцем, когда его насильственно перемещали по стране из лагеря в лагерь. Спросим, терпел ли батюшка болезни? – Да. Его терпению удивлялись лечащие врачи и восхищались все, кто видел, как он переносил страдания и боль. Был ли он тружеником? – Эту заповедь он соблюдал с малолетства и до старости. Он также прошел хорошую школу на разнообразных монастырских послушаниях. Кроме тайных подвигов отца Павла, ихже один весть, нужно прибавить сюда его юродство Христа ради, которым он старался скрыть свою духовную высоту и святость. Нужно добавить сюда его старческое служение и нравственную чистоту, добавить, что он победил духа уныния и помогал победить его другим. Духовное обаяние старца было и в его слове, и в его деле, и во всем его монашеском облике. Он был, по слову апостола, «для всех всем» и с каждым мог говорить на его языке.
Когда отец Павел умирал, он был похож на русского былинного богатыря. Во время последнего соборования в больнице его чистое благородное лицо, в котором всегда отражался лик Христов, светилось неземной красотой, несмотря на страдания. И в самой его смерти и на похоронах его мы все ощущали прикосновение к небесному блаженству, чувство умиротворения и праздника. Потому что „благодать и милость в преподобных Его и посещение во избранных Его“».
Духовные наставления
◊ У отца Павла спрашивали: «Батюшка, как ты живешь?» Он отвечал: «„Раз дощечка, два дощечка – будет лесенка“. Пошел в лес, взял бревно, испек хлеб – вот тебе и живу. „Раз словечко, два словечко – будет песенка“. Я говорю: Марья (келейница отца Павла. – Ред.), благословен наш. А она: Аминь. Так и живу».
– А нам-то как жить, батюшка?
– А вот как:
Друг любезный! Так живи:
Плохим мыслям и пожеланиям в сердце двери затвори.
Читай Иисусову молитву, да поменьше говори.
◊ делай – верующему ли, неверующему. Не нам судить! Пьянице ли, разбойнику... Не пьянице делаешь ведь, человеку. Помни – первым разбойник вошел в небесное Царство: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!» И Господь сказал: «Сегодня же будешь со Мной в раю!» И ты – делай, как разбойник благоразумный, и Господь тебя помилует.
А молиться за всех надо. За всех! И за верующих, и за неверующих. По примеру Христа! Если обидят: «Господи! Прости! Не знают бо, что творят». А как жить? Святитель Митрофан говорил: «Употреби труд, имей мерность – богат будешь! Не объедайся, не опивайся – здоров будешь!» А всего шибче: «Твори благо, избегай злаго – спасен будешь!» Вот так. Ищите прежде Царствия Божия, а остальное все – приложится вам! Потихоньку да помаленьку.
◊ Родные мои! Копейки потеряешь – наплевать! Какую одежу потеряешь, украдут – да наплевать! Совесть не теряй! У совести нет зубов, а она загрызет до смерти.
Как чистая совесть – я пожил на веку, повертелся и на спине, и на боку – да как чистая-то совесть, старухи! Как придешь – чего поешь, да как ляжешь – на чем ляжешь... Да как спишь! Господи! Дольше бы не будили.
А как грязная-то совесть! Из бани придешь, чаю напьешься крепкого, сахару как льду в сахарнице-то, папошник (хлеб. – Ред.) мягкий. И похлебка теплая – всего нахлебаешься. Ляжешь. Да что же не спится-то? Аух! Совесть не дает!
Не теряйте совесть! Совесть потерять самое страшное. Родные мои! Друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов!
◊ Сейчас идет пост. Пост – телу чистота, душе красота! Пост – ангелов радование, бесов горе. Но надо помнить: в наше время лучше совсем не поститься, чем поститься без ума. Сказано: будьте мудры, яко змия. При жизни святителя Тихона был у него в монастыре келейник Кузьма. Вот в идет Кузьма в церковь, а его приятель несет судака:
– Отец Кузьма! Я тебе судака несу на Вербное воскресенье.
– Спаси тебя Господи! На тебе целковый.
Судака отнес домой и опять в церковь. А там другой приятель Яков, двадцать годов не видались!
– Яков, ты как сюда попал?
– А вот так попал. Пришел с тобой прощаться. Больше не увидимся. Из Питера приехал к тебе.
«Господи, чем же я Якова угощу?» И бегом домой. Судака того очистил, из головы и потрохов уху сварил, остальное все зажарил. И снова в церковь. Помолились с Яковом.
– Яков, пойдем!
Сидят, едят судака в келье. Вдруг дверь открывается и входит святитель Тихон. Они ему в ноги:
– Владыка, прости!
– Ребята, ешьте! превышает пост. Ты последнее ему отдал, ешьте на здоровье!
И сам – а он великий постник был, святитель Тихон, – и кусок рыбы съел, и ухи похлебал.
Знаю старуху – она умерла. Постница была страшная. Шла наша старуха и вдруг упала. А мужик-пьяница на тракторе ехал, подобрал ее и в больницу привез.
– Отец Павел, Дуня-то из Марьино в больнице.
Пришел к ней:
– Ну, чего?
– Дак ведь упала, шибко испостилася.
– Это не ты постилася, а Васька, который тебя в больницу привез.
«Болен был, а вы посетили Меня». Да?
Еще старуха была. Постилася, молилася всю жизнь. На старости – аух – ослепла. Сидит на завалинке. Сын ее не обижает, внучата не обижали. Ну, ела вместе со всеми – молоко, мясо. Ну что есть – то и ешь!
Сердобольная соседка идет:
– Михайловна! Вон я тебе с грибами похлебки принесла. Сегодня постный день-то.
– Ой, да спасибо, Оля!
Сын идет:
– Что тебя, зараза, не кормят? Куски собираешь?
Как эту кастрюлю схватил, этой Оле пендаля дал, Оля через дорогу летела. Кастрюлю швырнул в крапиву. Мать за шиворот домой. Долго Михайловна стонала.
Ешьте, старые, что дадут! Чашка молока не отнимет Христа! Ты молоко-то пей, а из людей кровь не пей! Верно? Верно! Вот так.
Не особо давно позвали меня на Борок.
– Отец Павел! Приди! Маму причасти!
Пришел – интеллигентный дом, что ты! Живут – рай! Радостно у них в доме. Женщину причастил, напутствовал. Хозяин мне и говорит:
– Отец Павел, знаешь что, ты к нам никогда так не зайдешь. А я по такому случаю пригласил тебя к мамке-то.
Да Соловецкие чудотворцы! Да Никола Милостивый! Как распахнул дверь ту, а на столе-то, робята! Нажарено, напекено...
– Отец Павел! На любое место!
Я говорю:
– Парень! Пост!
А он и головушку повесил: «Недостоин, недостоин посещения твоего!» А жена только вздыхает. Я думаю: «Господи... А постто будет...»
– Парень! Режь пирога, давай рыбы, давай стопку!
Ребята! Напился, наелся на две недели и домой пришел с радостью. И парню благотворил. Дай ему, Господи, доброго здоровья. А пост-то... Поститеся да молитеся, когда люди не видят. Верно?
Не кажите себя перед людьми праведниками. Не делай явно, а делай тайно. И Господь тебе воздаст.
Как Христос в гости ходил
(из рассказов отца Павла)
В одном месте прошел слух, что Спаситель придет в этот город. Сам Христос. А кто хороший человек, благочестивый человек, Он придет в гости к нему. А Он каждый день к нам, каждый час к нам. А у этого человека благочестивого будет гостить.
Одна женщина – церковь она посещала, каждый день Евангелие читала, молилась, вела прекрасную жизнь, но гордость у нее была. И вот она сама себе говорит: «Спаситель ко мне придет, обязательно придет». Напекла, наготовила. Этого не было, а пример, притча. Все наготовила. Ждет Спасителя. Самовар вскипятила, мармашели наварила, пирогов напекла, яишницу сделала по-простому – Спаситель придет. Притом же она Евангелие каждый день читала.
Идет мальчишка-сосед и говорит:
– Тетя Маня, ради Христа, пойдем, помоги, с мамой плохо сделалося. Стонет, а мне ее не поднять.
– Не пойду. Ко мне Гость придет. А ты пришел, нахрямдал тута в грязных сапогах.
Прогнала ребенка. Ну чего. Мальчишонка домой пришел, мать поправилася. Слава Тебе, Господи!
А Мария ждет, она верила-верила неложному слову Христа. Обед прошел. Нет. Все глаза проглядела – нету Христа. Ладно. Идет из другой деревни мужчина:
– Мария, коровушка телится, да неладно. Пойдем, помоги ради Христа, ты по коровам-то понимаешь.
– Уходи, ко мне Гость придет, я Гостя жду.
Нету. Прогнала мужика. Мужик пришел домой, корова-то отелилась. Ладно.
А Мария ждет Христа, не дождется. Поздний-поздний вечер. Входит мужчина и говорит:
– Слушай-ка, баба, я овдовел давно да пропился. А как, сами знаете – «стопочки да рюмочки доведут до сумочки». Пропился, бельишко на мне-то старенько. Улатай, постирай.
Во принес грязного-то белья!
– Уходи, провалился бы ты. Выгнала:
– Я Гостя жду.
Нету Гостя. На варенье мухи насели, пирог как дуб сделался, зачерствел, самовар – все уголья пережгла. Нету Гостя, не пришел к ней Христос. Уснула.
Видит сон. Пришел к ней Спаситель. Она говорит:
– Господи, я верю неложному Твоему слову, потому что каждое слово Твое истинно. И вот сказали, что Христос придет, я ждала Тебя.
Он говорит:
– Да, Мария, Я за твою благочестивую жизнь, за твою любовь к храму Божиему к первой тебе пришел. Я к тебе три раза приходил, а ты Меня три раза выгнала.
– Господи. Нет, этого не было.
– Евангелие читаешь?
– Господи, ежедневно.
– Дак вот, – говорит, – баба, слушай, вот здесь написано: «Болен был, а вы посетили Меня». Это приходил-то не Васютко, а это Я к тебе приходил, а ты Меня выгнала.
– Не знала, Господи. Ну а второй-то раз когда?
– А второй раз мужик-то пришел, попросил тебя. Я послал мужика-то, Я навел на корову, чтоб тебя испытать, твою веру. «В беде были, а вы помогли Мне». А ты Меня выгнала.
– Господи, не знала! А третий раз когда, Господи?
– А третий-то раз приходил опять Я к тебе. «Наг был, а вы одели Меня».
– Не знала, Господи!
Врешь, зараза, знала! Потому что вот тут написано: «Кто сотворил единому из малых сих, Мне сотворил». А ты Евангелие читаешь. Вот, родные, вот из этого примера, этого поучения, себе сделайте пример.